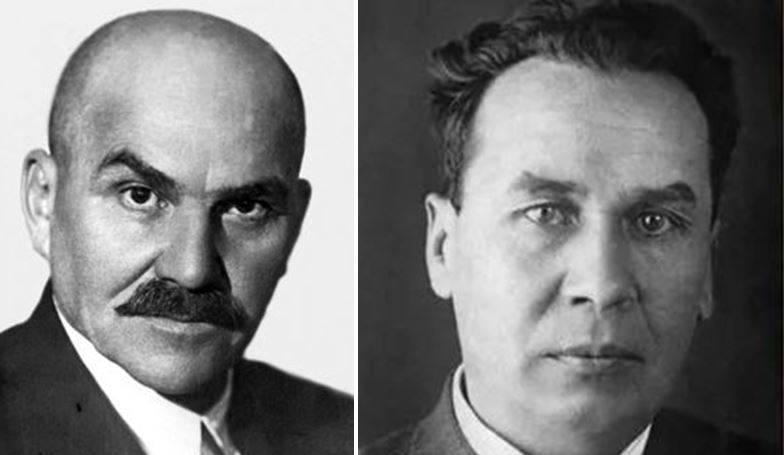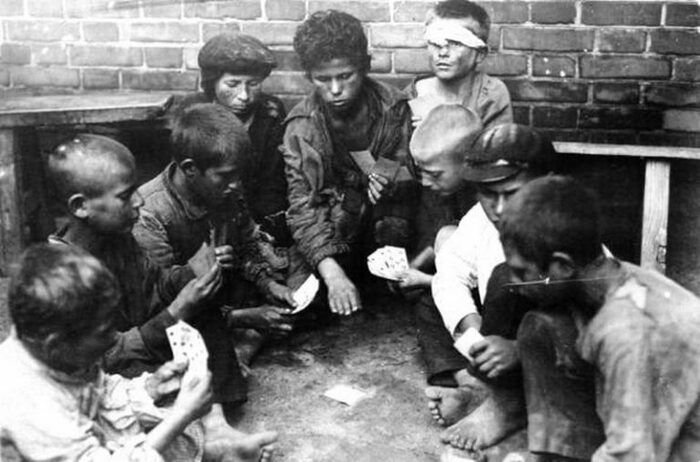История создания танка Т-34 пришлась на период «большого террора» и во многом была трагичной для его создателей. Согласно канонической советской историографии, создание Т-34 связывают исключительно с именем главного конструктора Михаила Кошкина, сменившего в декабре 1936 года репрессированного Афанасия Фирсова. Следует отметить, что для разработки прорывной конструкции танка нужен был конструкторский гений, а Кошкин таковым не был.
Начало разработки первого советского танка
Для объективной оценки вклада каждого из них необходимо вернуться в то время, когда только начинала формироваться советская танковая школа. До конца 20-х годов в Союзе не было танков собственной разработки, только в 1927 году военные выдали требования на разработку первого советского «маневренного танка» с пулеметно-пушечным вооружением. Разработку танка Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста передало в Харьков на ХПЗ им. Коминтерна (завод №183), где для разработки танка была создана специализированная конструкторская группа (преобразованная в 1929 году в танковое конструкторское бюро Т2К), которую возглавил молодой талантливый конструктор Иван Алексенко (1904), руководивший КБ до 1931 года. В группе работали такие же молодые конструкторы, в том числе и будущий главный конструктор Александр Морозов.
В короткое время конструкторы разработали документацию на танк, и в 1929 году был изготовлен опытный образец танка Т-12. По результатам испытаний танк был переработан в танк Т-24, изготовлена опытная партия в количестве 25 машин, по результатам испытаний началась доработка их конструкции, но в июне 1931 года работы было приказано прекратить и начать проектирование колесно-гусеничного танка БТ.
Это было связано с тем, что военное руководство решило не вести «с нуля» разработку отечественных танков, а заимствовать опыт западных конструкторов и производить по лицензии зарубежные танки: американский «Кристи» М1931, ставший прототипом быстроходного БТ-2, и английский « «Виккерс шеститонный», ставший прототипом легкого Т-26. Производство БТ-2 разместили на ХПЗ, а Т-26 — на Ленинградском заводе «Большевик». Так в Союзе начали складываться две школы танкостроения.
В Харькове руководство ХПЗ и конструкторы противились такому повороту событий, не спешили внедрять в производство БТ-2 и старались завершить доводку Т-24. Москва настояла на своем решении, и работы по БТ-2 медленно стали набирать обороты. Начальник конструкторского бюро Т2К Алексенко считал, что копировать иностранную технику непатриотично, надо создавать свою танковую школу, и в знак несогласия подал заявление и уволился.
В КБ работала только молодежь, в основном без высшего технического образования, поддерживавшая устремлениями Алексенко довести свой танк Т-24. Для усиления КБ решением коллегии ОГПУ в декабре 1931 года начальником КБ был назначен талантливый и опытный инженер Афанасий Фирсов, сидевший в одной из московских «шарашек», приговоренный к пяти годам заключения за «вредительскую деятельность». Назначение Фирсова сыграло судьбоносную роль для КБ и советского танкостроения.
Кто такой Фирсов
Фирсов родился в 1883 году в семье бердянского купца, после окончания железнодорожного училища высшее образование получал в высшей технической школе в Митвайде (Германия) и политехническом институте в Цюрихе (между прочим, его заканчивал и Альберт Эйнштейн), специализировался на проектировании дизелей. Получив высшее образование, работал конструктором на заводе «Зульцер».
В 1914 году вернулся в Россию, на Коломенском машиностроительном заводе стал работать над созданием дизелей для подводных лодок, потом главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а в 1927 году на Николаевских заводах имени Андре Марти — главным инженером по дизельному строительству.
В 1929 году как представитель «старорежимных сословий» проходил по делу о контрреволюционной вредительской группе на заводе, свою вину не признал, и ее не доказали, но в связи с такими подозрениями он в 1929 году уволился и переехал в Ленинград, где его как специалиста пригласили на завод «Русский дизель».
Шел 1930 год, начался процесс над членами Промпартии, среди обвиняемых оказался близкий знакомый Фирсова, ему припомнили «николаевское дело», арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Квалифицированный специалист, он работал в одной из московских «шарашек» под непосредственным руководством Орджоникидзе, здесь он стал заниматься проблемами танкостроения, и в 1931 году под охраной был отправлен в Харьков возглавлять «непокорное» танковое КБ.
Вначале коллектив создателей Т-24 не очень приветливо встретил назначенца «сверху», но одаренный и разносторонне развитый Фирсов, инженер с энциклопедическими знаниями, быстро завоевал авторитет и уважение. По свидетельству современников, находясь под круглосуточным контролем ОГПУ и живя при заводе, поскольку семья осталась в Ленинграде, он с головой окунулся в работу. Фирсов умел хорошо и четко организовать труд своих подчиненных, выдержанный, уравновешенный в общении, он стремился передать свой опыт подчиненным. Вместе с ними изучал технические новинки зарубежных фирм, поощрял изучение иностранных языков.
Разработка семейства танков БТ и дизельного двигателя В2
Перед Фирсовым была поставлена задача организовать на заводе качественное производство танков БТ-2, которые имели много недоработок и дефектов в основных агрегатах, силовой установке и узлах ходовой части. Двигатель «Либерти», покупаемый в США, был капризным, нередко перегревался, при пуске были случаи его возгорания. Освоение серийного производства этих танков шло с трудом также в связи с отсутствием на заводе базы, способной освоить производство нового танка в таких количествах, из армии часто приходили рекламации о выходе из строя коробок передач.
Фирсов с коллективом молодых конструкторов приложил много труда для доработки конструкции танка и совершенствования технологии его производства. Постепенно проблемы уходили, под его руководством были разработаны танки БТ-5 и БТ-7, продолжившие линейку машин этого семейства. В 1935 году за разработку танка БТ-7 Фирсова наградили орденом Красного Знамени.
На заводе с 1932 года под руководством начальника дизельного одела Константина Челпана велась разработка 400-сильного танкового дизельного двигателя БД-2 (быстроходный дизель), будущего В2. Челпан не раз свидетельствовал, что квалифицированный специалист по дизелям Фирсов внес большой вклад в создание этого двигателя. Военные и лично Сталин внимательно следили за ходом работ по дизелю. Первый образец БД-2 был продемонстрирован руководству страны в 1934 году. За эту разработку завод, директор Бондаренко и Челпан были удостоены орденов Ленина.
Концепция нового танка и репрессии
Занимаясь совершенствованием колесно-гусеничных танков семейства БТ, опытный инженер Фирсов видел, что это тупиковое направление, здесь не может быть прорыва. Он начал искать пути создания принципиально нового танка, под его руководством небольшая группа в составе Александра Морозова, Михаила Таршинова и Василия Васильева в течение 1935 года вела проработки такого танка.
Фирсов заложил первичный технический облик будущего Т-34 и его основные технические характеристики. Васильев вспоминал:
Уже в конце 1935 г. на столе главного конструктора лежали проработанные эскизы принципиально нового танка: противоснарядное бронирование с большими углами наклона, длинноствольная 76,2-мм пушка, дизельный двигатель В-2 , масса до 30 т…
От танка семейства БТ новый танк получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от колесно-гусеничного движителя отказались в пользу чисто гусеничного.
В 1936 году ХПЗ им. Коминтерна переименовывают в завод №183, а КБ Т2К присваивают индекс КБ-190, в конструкторском бюро ведется проработка узлов и агрегатов нового танка, но летом 1936 года на заводе начинаются репрессии. Причиной послужили массовые рекламации из войск по причине выхода из строя коробок передач танков БТ-7. В конструкции танка действительно были конструктивные недостатки, к тому же в войсках увлеклись эффектными прыжками на этом танке с трамплина, что, естественно, влияло на работоспособность БТ-7. Машину стали называть «вредительским танком», Фирсова отстранили от должности, но оставили работать в КБ.
Вместо Фирсова в декабре 1936 года Орджоникидзе, хорошо знавший Михаила Кошкина, переводит его из Ленинграда в Харьков и назначает начальником КБ-190. Нового главного конструктора встречал лично Фирсов, продолжавший работать в КБ вплоть до ареста и кропотливо вводивший его в курс дела.
За короткое время Морозовым под руководством Фирсова была разработана новая коробка передач, внедрена в производство, и вопрос был закрыт, но приближались 1937 год и «большой террор». Фирсову не забыли его «вредительскую деятельность» в Николаеве и Ленинграде. В марте 1937 года его вновь арестовали и отправили в тюрьму в Москву. Некоторое время он там содержался вместе с еще одним «вредителем» — авиаконструктором Туполевым.
Репрессии коснулись не только Фирсова, которого вскоре расстреляли, а многих руководителей и инженеров завода и КБ. В 1937 году на завод из Москвы направили комиссию для выяснения причин низкого качества двигателей БД-2, которая выявила недоработки в конструкции двигателя и несоблюдение технологии его производства.
По результатам работы комиссии двигатель доработали, внеся в него до двух тысяч изменений, но оргвыводы были сделаны. Челпана отстраняют от работы и в декабре 1937 года арестовывают вместе с конструкторами: дизелистами Трашутиным, Аптекманом, Левитаном и Гуртовым, всех, кроме Трашутина, расстреливают за «вредительство», последнего в 1939 году освобождают. Арестовывают главного инженера завода Ляща, главного металлурга Метанцева и многих других инженеров и военпредов. В мае 1938 года был арестован и вскоре расстрелян директор завода Бондаренко.
По воспоминаниям Васильева, репрессии вызвали настоящую фобию в КБ-190. Он вспоминал:
«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения «чёрного ворона» с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними».
В таких условиях страха и ожидания ареста продолжалась разработка нового танка.
Кто такой Кошкин
После Фирсова КБ-190 принял Кошкин. Кем он был до этого? Кошкин был партийным функционером и зарекомендовал себя хорошим организатором. Был лично знаком с Орджоникидзе и Кировым. За два года до назначения в Харьков он закончил Ленинградский политехнический институт и потом работал конструктором в танковом КБ Ленинградского завода им. Кирова. На этом его опыт в разработке танков заканчивался. Орджоникидзе направил его в КБ-190 как опытного организатора для разрешения тяжелой ситуации, сложившейся на танковом заводе.
Кошкин действительно оказался талантливым руководителем, он достойно оценил молодой коллектив конструкторов и уникальность предложенной Фирсовым концепции нового танка. До этого он работал на достаточно высоких административных и партийных должностях и был вхож в высшие инстанции, там он сумел доказать перспективность работы над новым танком и убедил не продолжать репрессии против сотрудников КБ. Под руководством Кошкина работы над танком в той сложной ситуации продолжились.
Противостояние Кошкина и Дика
Для усиления КБ-190 в июне 1937 года направляется адъюнкт московской Военной академии механизации и моторизации военинженер 3-го ранга Дик с не совсем понятными целями. Ему подчинили часть конструкторов, и в бюро воцарилось двоевластие, которое ничем хорошим закончиться не могло. В этот период КБ работало над модернизацией танка БТ-7 и разработкой нового танка БТ-9, отличавшегося наличием шести ведущих колёс, дизельным двигателем, конической башней с 45-мм или 76-мм пушкой и наклонной бронёй. Совместная работа Кошкина и Дика не складывалась, они обвиняли друг друга в неправильных конструкторских решениях, в срыве, а иногда и саботаже работ. Количество взаимных претензий росло, а работа не двигалась.
Московскому руководству надоели конфликты, и в сентябре 1937 года танковое КБ-190 разделили на два. Отдельное ОКБ во главе с Диком подчинили непосредственно главному инженеру завода, начальниками секций в ОКБ стали Дорошенко, Таршинов, Горбенко, Морозов и Васильев. ОКБ должны были пополнить 50 выпускниками военной академии, а в качестве консультанта привлекли известного испытателя танков капитана Кульчицкого.
Кошкин остался начальником КБ-190, которое должно было заниматься исключительно разработкой модернизированных вариантов БТ-7, а ОКБ должно было разрабатывать новый танк БТ-9 (БТ-20), сопровождение серийного производства на заводе осуществляло КБ-35.
В октябре 1937 года было выдано ТТТ на новый колесно-гусеничный танк с тремя парами ведущих колес, толщиной лобовой брони 25 мм, 45-мм или 76,2-мм пушкой и дизельным двигателем.
В основу разработки нового танка была положена концепция Фирсова, которая далее развивалась Морозовым и Таршиновым. Прокатившаяся в ноябре-декабре 1937 года волна арестов на заводе дезорганизовала работу по новому танку, в срыве работ обвинили Дика, которого в апреле 1938 года арестовали и осудили на десять лет, на этом его карьера закончилась.
Кошкин завершает разработку танка
Дальше не совсем понятно, как Кошкин в тех условиях создает КБ-24 и продолжает работы по новому танку. По крайней мере, в середине марта 1938 года на заседании коллегии Автобронетанкового управления и в конце марта на заседании Комитета обороны проект колесно-гусеничного танка представляли Кошкин и Морозов. Эскизный проект танка был утвержден с замечаниями увеличить бронирование до 30 мм и установить 76,2-мм пушку. Одновременно под руководством Кошкина в конце 1938 года был разработан и запущен в серийное производство танк БТ-7М с двигателем В2, подтвердивший возможность применения на танке нового дизельного двигателя.
Кошкин продолжал биться за гусеничный вариант танка, и в сентябре 1938 года завод получил задание на разработку двух вариантов танка: колесно-гусеничного А20 и гусеничного А-20Г (А32).
Для объединения усилий все три конструкторских бюро завода объединяются в одно КБ-520 во главе с Кошкиным, заместителем главного конструктора стал Морозов, а заместителем начальника КБ — Кучеренко. В кратчайшие сроки образцы танков были изготовлены, и в июне-августе 1939 года прошли на полигоне в Харькове испытания. Оба танка выдержали испытания, но конструкция А-32 была намного проще за счет отсутствия сложного колесного движители и имела запас по весу.
В сентябре при показе бронетанковой техники руководству Минобороны участвовали А-20 и А32, где последний выступил очень эффектно. По результатам испытаний и показа было принято решение остановиться на гусеничном варианте танка А-32, усилив его бронезащиту до 45 мм.
На заводе началось срочное изготовление двух танков А-32. Узлы и детали танка тщательно изготавливали и придирчиво собирали, резьбовые соединения пропитывались горячим маслом, тщательной отделке подвергались внешние поверхности корпуса и башни. Опытный аппаратчик Кошкин отлично понимал, что при показе танков высшему руководству мелочей не бывает.
Дальше произошел хорошо известный пробег танков из Харькова в Москву, успешный показ в Кремле танков Сталину, пробег обратно в Харьков, болезнь и трагическая смерть Кошкина. После показа на высшем уровне танки прошли испытания на Кубинке и на Карельском перешейке, танк получил высокую оценку самого Сталина, ему была дана путевка в жизнь.
Так конструкторский гений Фирсова и организаторские таланты Кошкина смогли в условиях развернувшихся репрессий и недопонимания военными перспектив развития танков создать машину, ставшую символом Победы в той страшной войне. Оба они, несомненно, внесли громадный вклад в создание этой машины, но приписывать все лавры только Кошкину несправедливо.
Концепция танка и его компоновка была задумана Фирсовым, под его руководством основные узлы танка были проработаны в подразделениях КБ, а завершали разработку танка специалисты, начавшие его проектировать под руководством Фирсова. Костяк ведущих конструкторов был сохранен, и Кошкин в той трагической ситуации организовал работу по завершению разработки танка и добился принятия его на вооружение. Фамилии Фирсова и Кошкина как главных конструкторов Т-34 могут достойно стоять рядом.
История создания танка Т-34 пришлась на период «большого террора» и во многом была трагичной для его создателей. Согласно канонической советской историографии, создание Т-34 связывают исключительно с именем главного конструктора Михаила Кошкина, сменившего в декабре 1936 года репрессированного Афанасия Фирсова. Следует отметить, что для разработки прорывной конструкции танка нужен был конструкторский гений, а Кошкин таковым не был.
Начало разработки первого советского танка
Для объективной оценки вклада каждого из них необходимо вернуться в то время, когда только начинала формироваться советская танковая школа. До конца 20-х годов в Союзе не было танков собственной разработки, только в 1927 году военные выдали требования на разработку первого советского «маневренного танка» с пулеметно-пушечным вооружением. Разработку танка Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста передало в Харьков на ХПЗ им. Коминтерна (завод №183), где для разработки танка была создана специализированная конструкторская группа (преобразованная в 1929 году в танковое конструкторское бюро Т2К), которую возглавил молодой талантливый конструктор Иван Алексенко (1904), руководивший КБ до 1931 года. В группе работали такие же молодые конструкторы, в том числе и будущий главный конструктор Александр Морозов.
В короткое время конструкторы разработали документацию на танк, и в 1929 году был изготовлен опытный образец танка Т-12. По результатам испытаний танк был переработан в танк Т-24, изготовлена опытная партия в количестве 25 машин, по результатам испытаний началась доработка их конструкции, но в июне 1931 года работы было приказано прекратить и начать проектирование колесно-гусеничного танка БТ.
Это было связано с тем, что военное руководство решило не вести «с нуля» разработку отечественных танков, а заимствовать опыт западных конструкторов и производить по лицензии зарубежные танки: американский «Кристи» М1931, ставший прототипом быстроходного БТ-2, и английский « «Виккерс шеститонный», ставший прототипом легкого Т-26. Производство БТ-2 разместили на ХПЗ, а Т-26 — на Ленинградском заводе «Большевик». Так в Союзе начали складываться две школы танкостроения.
В Харькове руководство ХПЗ и конструкторы противились такому повороту событий, не спешили внедрять в производство БТ-2 и старались завершить доводку Т-24. Москва настояла на своем решении, и работы по БТ-2 медленно стали набирать обороты. Начальник конструкторского бюро Т2К Алексенко считал, что копировать иностранную технику непатриотично, надо создавать свою танковую школу, и в знак несогласия подал заявление и уволился.
В КБ работала только молодежь, в основном без высшего технического образования, поддерживавшая устремлениями Алексенко довести свой танк Т-24. Для усиления КБ решением коллегии ОГПУ в декабре 1931 года начальником КБ был назначен талантливый и опытный инженер Афанасий Фирсов, сидевший в одной из московских «шарашек», приговоренный к пяти годам заключения за «вредительскую деятельность». Назначение Фирсова сыграло судьбоносную роль для КБ и советского танкостроения.
Кто такой Фирсов
Фирсов родился в 1883 году в семье бердянского купца, после окончания железнодорожного училища высшее образование получал в высшей технической школе в Митвайде (Германия) и политехническом институте в Цюрихе (между прочим, его заканчивал и Альберт Эйнштейн), специализировался на проектировании дизелей. Получив высшее образование, работал конструктором на заводе «Зульцер».
В 1914 году вернулся в Россию, на Коломенском машиностроительном заводе стал работать над созданием дизелей для подводных лодок, потом главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а в 1927 году на Николаевских заводах имени Андре Марти — главным инженером по дизельному строительству.
В 1929 году как представитель «старорежимных сословий» проходил по делу о контрреволюционной вредительской группе на заводе, свою вину не признал, и ее не доказали, но в связи с такими подозрениями он в 1929 году уволился и переехал в Ленинград, где его как специалиста пригласили на завод «Русский дизель».
Шел 1930 год, начался процесс над членами Промпартии, среди обвиняемых оказался близкий знакомый Фирсова, ему припомнили «николаевское дело», арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Квалифицированный специалист, он работал в одной из московских «шарашек» под непосредственным руководством Орджоникидзе, здесь он стал заниматься проблемами танкостроения, и в 1931 году под охраной был отправлен в Харьков возглавлять «непокорное» танковое КБ.
Вначале коллектив создателей Т-24 не очень приветливо встретил назначенца «сверху», но одаренный и разносторонне развитый Фирсов, инженер с энциклопедическими знаниями, быстро завоевал авторитет и уважение. По свидетельству современников, находясь под круглосуточным контролем ОГПУ и живя при заводе, поскольку семья осталась в Ленинграде, он с головой окунулся в работу. Фирсов умел хорошо и четко организовать труд своих подчиненных, выдержанный, уравновешенный в общении, он стремился передать свой опыт подчиненным. Вместе с ними изучал технические новинки зарубежных фирм, поощрял изучение иностранных языков.
Разработка семейства таков БТ и дизельного двигателя В2
Перед Фирсовым бала поставлена задача организовать на заводе качественное производство танков БТ-2, которые имели много недоработок и дефектов в основных агрегатах, силовой установке и узлах ходовой части. Двигатель «Либерти», покупаемый в США, был капризным, нередко перегревался, при пуске были случаи его возгорания. Освоение серийного производства этих танков шло с трудом также в связи с отсутствием на заводе базы, способной освоить производство нового танка в таких количествах, из армии часто приходили рекламации о выходе из строя коробок передач.
Фирсов с коллективом молодых конструкторов приложил много труда для доработки конструкции танка и совершенствования технологии его производства. Постепенно проблемы уходили, под его руководством были разработаны танки БТ-5 и БТ-7, продолжившие линейку машин этого семейства. В 1935 году за разработку танка БТ-7 Фирсова наградили орденом Красного Знамени.
На заводе с 1932 года под руководством начальника дизельного одела Константина Челпана велась разработка 400-сильного танкового дизельного двигателя БД-2 (быстроходный дизель), будущего В2. Челпан не раз свидетельствовал, что квалифицированный специалист по дизелям Фирсов внес большой вклад в создание этого двигателя. Военные и лично Сталин внимательно следили за ходом работ по дизелю. Первый образец БД-2 был продемонстрирован руководству страны в 1934 году. За эту разработку завод, директор Бондаренко и Челпан были удостоены орденов Ленина.
Концепция нового танка и репрессии
Занимаясь совершенствованию колесно-гусеничных танков семейства БТ, опытный инженер Фирсов видел, что это тупиковое направление, здесь не может быть прорыва. Он начал искать пути создания принципиально нового танка, под его руководством небольшая группа в составе Александра Морозова, Михаила Таршинова и Василия Васильева в течение 1935 года вела проработки такого танка.
Фирсов заложил первичный технический облик будущего Т-34 и его основные технические характеристики. Васильев вспоминал:
Уже в конце 1935 г. на столе главного конструктора лежали проработанные эскизы принципиально нового танка: противоснарядное бронирование с большими углами наклона, длинноствольная 76,2-мм пушка, дизельный двигатель В-2 , масса до 30 т…
От танка семейства БТ новый танк получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от колесно-гусеничного движителя отказались в пользу чисто гусеничного.
В 1936 году ХПЗ им. Коминтерна переименовывают в завод №183, а КБ Т2К присваивают индекс КБ-190, в конструкторском бюро ведется проработка узлов и агрегатов нового танка, но летом 1936 года на заводе начинаются репрессии. Причиной послужили массовые рекламации из войск по причине выхода из строя коробок передач танков БТ-7. В конструкции танка действительно были конструктивные недостатки, к тому же войсках увлеклись эффектными прыжками на этом танке с трамплина, что, естественно, влияло на работоспособность БТ-7. Машину стали называть «вредительским танком», Фирсова отстранили от должности, но оставили работать в КБ.
Вместо Фирсова в декабре 1936 года Орджоникидзе, хорошо знавший Михаила Кошкина, переводит его из Ленинграда в Харьков и назначает начальником КБ-190. Нового главного конструктора встречал лично Фирсов, продолжавший работать в КБ вплоть до ареста и кропотливо вводивший его в курс дела.
За короткое время Морозовым под руководством Фирсова была разработана новая коробка передач, внедрена в производство, и вопрос был закрыт, но приближались 1937 год и «большой террор». Фирсову не забыли его «вредительскую деятельность» в Николаеве и Ленинграде. В марте 1937 года его вновь арестовали и отправили в тюрьму в Москву. Некоторое время он там содержался вместе с еще одним «вредителем» — авиаконструктором Туполевым.
Репрессии коснулись не только Фирсова, которого вскоре расстреляли, а многих руководителей и инженеров завода и КБ. В 1937 году на завод из Москвы направили комиссию для выяснения причин низкого качества двигателей БД-2, которая выявила недоработки в конструкции двигателя и несоблюдение технологии его производства.
По результатам работы комиссии двигатель доработали, внеся в него до двух тысяч изменений, но оргвыводы были сделаны. Челпана отстраняют от работы и в декабре 1937 года арестовывают вместе с конструкторами: дизелистами Трашутиным, Аптекманом, Левитаном и Гуртовым, всех, кроме Трашутина, расстреливают за «вредительство», последнего в 1939 году освобождают. Арестовывают главного инженера завода Ляща, главного металлурга Метанцева и многих других инженеров и военпредов. В мае 1938 года был арестован и вскоре расстрелян директор завода Бондаренко.
По воспоминаниям Васильева, репрессии вызвали настоящую фобию в КБ-190. Он вспоминал:
«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения «чёрного ворона» с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними».
В таких условиях страха и ожидания ареста продолжалась разработка нового танка.
Кто такой Кошкин
После Фирсова КБ-190 принял Кошкин. Кем он был до этого? Кошкин был партийным функционером и зарекомендовал себя хорошим организатором. Был лично знаком с Орджоникидзе и Кировым. За два года до назначения в Харьков он закончил Ленинградский политехнический институт и потом работал конструктором в танковом КБ Ленинградском заводе им. Кирова. На этом его опыт в разработке танков заканчивался. Орджоникидзе направил его в КБ-190 как опытного организатора для разрешения тяжелой ситуации, сложившейся на танковом заводе.
Кошкин действительно оказался талантливым руководителем, он достойно оценил молодой коллектив конструкторов и уникальность предложенной Фирсовым концепции нового танка. До этого он работал на достаточно высоких административных и партийных должностях и был вхож в высшие инстанции, там он сумел доказать перспективность работы над новым танком и убедил не продолжать репрессии против сотрудников КБ. Под руководством Кошкина работы над танком в той сложной ситуации продолжились.
Противостояние Кошкина и Дика
Для усиления КБ-190 в июне 1937 года направляется адъюнкт московской Военной академии механизации и моторизации военинженер 3-го ранга Дик с не совсем понятными целями. Ему подчинили часть конструкторов, и в бюро воцарилось двоевластие, которое ничем хорошим закончиться не могло. В этот период КБ работало над модернизацией танка БТ-7 и разработкой нового танка БТ-9, отличавшегося наличием шести ведущих колёс, дизельным двигателем, конической башней с 45-мм или 76-мм пушкой и наклонной бронёй. Совместная работа Кошкина и Дика не складывалась, они обвиняли друг друга в неправильных конструкторских решениях, в срыве, а иногда и саботаже работ. Количество взаимных претензий росло, а работа не двигалась.
Московскому руководству надоели конфликты, и в сентябре 1937 года танковое КБ-190 разделили на два. Отдельное ОКБ во главе с Диком подчинили непосредственно главному инженеру завода, начальниками секций в ОКБ стали Дорошенко, Таршинов, Горбенко, Морозов и Васильев. ОКБ должны были пополнить 50 выпускниками военной академии, а в качестве консультанта привлекли известного испытателя танков капитана Кульчицкого.
Кошкин остался начальником КБ-190, которое должно было заниматься исключительно разработкой модернизированных вариантов БТ-7, а ОКБ должно было разрабатывать новый танк БТ-9 (БТ-20), сопровождение серийного производства на заводе осуществляло КБ-35.
В октябре 1937 года было выдано ТТТ на новый колесно-гусеничный танк с тремя парами ведущих колес, толщиной лобовой брони 25 мм, 45-мм или 76,2-мм пушкой и дизельным двигателем.
В основу разработки нового танка была положена концепция Фирсова, которая далее развивалась Морозовым и Таршиновым. Прокатившаяся в ноябре-декабре 1937 года волна арестов на заводе дезорганизовала работу по новому танку, в срыве работ обвинили Дика, которого в апреле 1938 года арестовали и осудили на десять лет, на этом его карьера закончилась.
Кошкин завершает разработку танка
Дальше не совсем понятно, как Кошкин в тех условиях создает КБ-24 и продолжает работы по новому танку. По крайней мере, в середине марта 1938 года на заседании коллегии Автобронетанкового управления и в конце марта на заседании Комитета обороны проект колесно-гусеничного танка представляли Кошкин и Морозов. Эскизный проект танка был утвержден с замечаниями увеличить бронирование до 30 мм и установить 76,2-мм пушку. Одновременно под руководством Кошкина в конце 1938 года был разработан и запущен в серийное производство танк БТ-7М с двигателем В2, подтвердивший возможность применения на танке нового дизельного двигателя.
Кошкин продолжал биться за гусеничный вариант танка, и в сентябре 1938 года завод получил задание на разработку двух вариантов танка: колесно-гусеничного А20 и гусеничного А-20Г (А32).
Для объедения усилий все три конструкторских бюро завода объединяются в одно КБ-520 во главе с Кошкиным, заместителем главного конструктора стал Морозов, а заместителем начальника КБ — Кучеренко. В кратчайшие сроки образцы танков были изготовлены, и в июне-августе 1939 года прошли на полигоне в Харькове испытания. Оба танка выдержали испытания, но конструкция А-32 была намного проще за счет отсутствия сложного колесного движители и имела запас по весу.
В сентябре при показе бронетанковой техники руководству Минобороны участвовали А-20 и А32, где последний выступил очень эффектно. По результатам испытаний и показа было принято решение остановиться на гусеничном варианте танка А-32, усилив его бронезащиту до 45 мм.
На заводе началось срочное изготовление двух танков А-32. Узлы и детали танка тщательно изготавливали и придирчиво собирали, резьбовые соединения пропитывались горячим маслом, тщательной отделке подвергались внешние поверхности корпуса и башни. Опытный аппаратчик Кошкин отлично понимал, что при показе танков высшему руководству мелочей не бывает.
Дальше произошел хорошо известный пробег танков из Харькова в Москву, успешный показ в Кремле танков Сталину, пробег обратно в Харьков, болезнь и трагическая смерть Кошкина. После показа на высшем уровне танки прошли испытания на Кубинке и на Карельском перешейке, танк получил высокую оценку самого Сталина, ему была дана путевка в жизнь.
Так конструкторский гений Фирсова и организаторские таланты Кошкина смогли в условиях развернувшихся репрессий и недопонимания военными перспектив развития танков создать машину, ставшую символом Победы в той страшной войне. Оба они, несомненно, внесли громадный вклад в создание этой машины, но приписывать все лавры только Кошкину несправедливо.
Концепция танка и его компоновка была задумана Фирсовым, под его руководством основные узлы танка были проработаны в подразделениях КБ, а завершали разработку танка специалисты, начавшие его проектировать под руководством Фирсова. Костяк ведущих конструкторов был сохранен, и Кошкин в той трагической ситуации организовал работу по завершению разработки танка и добился принятия его на вооружение. Фамилии Фирсова и Кошкина как главных конструкторов Т-34 могут достойно стоять рядом.
Михаил Кошкин — биография
Михаил Ильич Кошкин – советский инженер-конструктор, создатель и первый главный конструктор танка Т-34, начальник КБ танкостроения Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна.
Михаил Кошкин прошёл путь от пекаря на кондитерской фабрике до руководителя конструкторского бюро танкостроения. За время своей профессиональной деятельности он сконструировал танк Т-34, который знают во всём мире, его название связано с победой Советской армии во Второй мировой войне. Конструктору не довелось узнать, какой грандиозный вклад в военную отрасль сделал он для своей страны, поскольку до войны он не дожил 9 месяцев.
Детство
Михаил Ильич Кошкин родился 21 ноября (3 декабря) 1898 года в селе Брынчаги Ярославской области, в семье крестьян. Его отец занимался отходничеством. Когда Михаилу было почти семь лет, отец надорвался на лесозаготовках и умер, оставив вдовой жену с тремя малолетними детьми на руках. Будущему конструктору, чтобы выжить, вместе с матерью пришлось батрачить.
В десятилетнем возрасте Кошкин уехал из родных мест на заработки в Москву. В столице он устроился на кондитерскую фабрику учеником пекаря и за восемь лет работы дослужился до оператора карамелезавёрточных автоматов.
Служба в армии
В начале 1917 года Кошкин был призван на военную службу в императорскую армию. До августа он воевал на Западном фронте (шла Первая мировая война), был ранен и демобилизован в конце того же года.
Будучи сыном бедняка, Кошкин восторженно принял Октябрьскую революцию и с началом Гражданской войны добровольно вступил в ряды Красной армии. Став бойцом железнодорожного отряда, он защищал молодую советскую республику от иностранной военной интервенции вначале под Царицыном, затем в составе 3-го железнодорожного батальона на Северном фронте брал Архангельск. Там он впервые столкнулся с бронетехникой и был впечатлён английскими танками «Рикардо» Mark V, используемыми интервентами на этом участке фронта.
До Польского фронта, куда перебрасывали батальон, Кошкин не добрался, потому что заболел в дороге тифом. После лечения его перевели в 3-ю железнодорожную бригаду Южного фронта, которая занималась восстановлением железнодорожных путей и мостов. В ряды РКП(б) он вступил ещё на Северном фронте, а здесь он стал секретарём партийной ячейки.
Партийная служба
Летом 1921 года Кошкин демобилизовался и занялся партийной деятельностью. После окончания Коммунистического университета имени Я.М. Свердлова, где он свёл знакомство с партийными лидерами С. М. Кировым и Г. К. Орджоникидзе, Кошкин был командирован в Вятку (теперь это Киров) для руководства кондитерской фабрикой.
Прослужив с 1924 по 1925 год на фабрике, он перешёл в райком, затем в Губком ВКП(б) Вятки, женился на сотруднице Губпотребсоюза Вере Катаевой, в скором времени у них родилась дочь Лиза, а в дальнейшем ещё две дочери – Тамара и Татьяна.
Деятельность конструктора
Вероятно, Кошкин мог сделать хорошую партийную карьеру, но овладевший им ещё в годы войны интерес к технике побудил его написать письмо Сергею Мироновичу Кирову, в котором Михаил просил о содействии в получении высшего технического образования. Страна остро нуждалась в квалифицированных специалистах, поэтому ему не отказали. В 1929 году Кошкина вызвали в Ленинград, где он был принят в технологический институт. Вскоре 30-летний студент перевёлся в Ленинградский политехнический институт, потому что там был машиностроительный факультет. Производственную практику он проходил на Нижегородском автомобильном заводе. Михаил оказался настолько толковым, что руководство завода хлопотало перед Наркомом тяжёлой промышленности о направлении его по окончании обучения к ним. Но Кошкина влекло танкостроение и на последнем курсе он уже знал, где сможет заняться этим.
Защитив в 1934 году диплом по специальности «инженер-механик по конструированию автомобилей и тракторов» на тему «Коробка переменных передач среднего танка», начинающий инженер-конструктор стал сотрудником конструкторского бюро Ленинградского Кировского завода. Через два с половиной года Кошкин уже занимал должность заместителя начальника КБ. Изучая модели танков, закупленных на западе, бюро занималось разработкой принципиально новых моделей танков. Ленинградские конструкторы модернизировали серийные танки Т-26 и Т-28, создав модели Т-29 и Т-46-1. В 1936 году за успешную работу Кошкина наряду с другими конструкторами бюро наградили орденом Красной Звезды.
Танковая промышленность в ту пору была в плачевном состоянии и особую тревогу у Наркома тяжёлой промышленности Г. К. Орджоникидзе вызывал Танковый отдел Харьковского паровозостроительного завода. Было решено направить Кошкина в Харьков с учётом его организаторских способностей и одержимости в стремлении создать быстроходный средний танк.
Харьков
В декабре 1936 года Михаил Кошкин был назначен начальником КБ-190 танкового отдела Харьковского завода №183.
В те годы лёгкие колёсно-гусеничные быстроходные танки серии «БТ», выпускаемые в Харькове, и ленинградские танки Т-26 составляли основу танкового обеспечения Красной армии. Первоочередной задачей Кошкина была организация работы КБ по модернизации танка БТ-7, слабым местом которого была коробка переключения передач, и обеспечить его серийное производство. Под руководством Кошкина КБ-190, состоящее из 48 сотрудников, стало усердно работать по 14 направлениям. Основными из них была установка на БТ-7 совсем нового дизельного двигателя В-2 и разработка новых танков БТ-9 и БТ-ИС (последний – на основе конструкции БТ-2 и БТ-5).
С появлением нового противотанкового оружия задача КБ усложнилась. Участие легкобронированных советских танков в военных действиях по случаю Гражданской войны в Испании (толщина их брони была всего 20 мм) показало их уязвимость для артиллерии. Требовалась, скорей, не модернизация, а полная замена танкового парка Красной армии. Конструкторам в связи с этим была отведена особая роль, а для их разработок были отведены жёсткие сроки. Несоблюдение сроков грозило арестами.
Усиление противоснарядного бронирования увеличивало массу машины, что давало дополнительную нагрузку на трансмиссию. Попытка конструкторов решить проблему усложнением трансмиссии по предварительным расчётам оказалась не выгодна, производство такого танка оказалось бы дорогим и трудоёмким.
Параллельно с Кошкиным на Харьковском заводе работал конструктор Адольф Дик. Под руководством Дика появилась новая колёсно-гусеничная модель А-20, которая по боевым возможностям мало чем отличалась от БТ-7. Кошкину этот проект не нравился, потому что колёсная техника хорошо себя показывала на шоссе, но на пересечённой местности в условиях военных действий она бы продемонстрировала плохую проходимость.
Гусеничный танк
После ареста Дика вся ответственность за выполнение задания Министерства обороны легла на Кошкина. Любая его ошибка могла стоить ему свободы или даже жизни. Он рискнул и взялся за осуществление своей давней идеи создания чисто гусеничного танка, что упрощало конструкцию машины и за счёт экономии позволяло усилить броню и вооружение. В конце апреля 1938 года, заручившись поддержкой И. Сталина, Кошкин добился разрешения Народного комиссариата обороны испытать опытный экземпляр А-20, а наряду с ним – новый гусеничный танк, получивший индекс А-32. Чтобы уложиться в назначенные сроки, в начале 1939 года для разработки чертежей новых танков все КБ Харьковского завода были объединены в один КБ-520. Его главным конструктором был назначен М.И. Кошкин.
Летом 1939 года государственная комиссия, присутствовавшая на испытаниях новых моделей, пришла к выводу, что А-20 – скоростной, тактически подвижный танк, А-32 же отличается высокой проходимостью и неплохой бронезащитой. Однако военные эксперты никак не могли определиться, какой из двух танков следует запустить в производство, и конструкторы продолжили заниматься усовершенствованием машин.
На следующих испытаниях в сентябре 1939 года государственная комиссия увидела обновлённый А-32, который был оснащён 76-миллиметровой пушкой. Машине был присвоен индекс Т-32. Танк впечатлил присутствующих не только хорошими ходовыми качествами, но и красивой формой. Военные чиновники и на этот раз не смогли отдать предпочтение какому-нибудь из танков для запуска в серийное производство.
Сомнения отпали с началом советско-финской войны (1939-1940 год), продемонстрировавшей все недостатки советского танкового парка. С учётом замечаний КБ-520 продолжило усовершенствование модели Т-32. Был усилен гусеничный движитель, а толщина брони увеличена до 45 мм. 19 декабря 1939 года новый танк, получивший индекс Т-34, был принят на вооружение РККА.
Пробег
Последним испытанием для Т-34 в марте 1940 года стал танкопробег по маршруту Харьков-Москва, показ членам правительства на Красной площади и путь обратно. Михаил Кошкин, понимая всю ответственность, лежащую на нём, принял личное участие в этом испытании.
Опытные экземпляры двух танков по бездорожью, в условиях снежных заносов прошли 750 км до Москвы и потом обратно. 17 марта за маневрами танков на Ивановской площади Кремля наблюдали И. В. Сталин, М. И. Калинин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов. Судьба танков была окончательно решена – их немедленно запустили в производство. Сталин растроганно назвал новую модель танка «первой ласточкой наших бронетанковых сил».
Смерть
Танкопробег сильно подорвал здоровье главного конструктора. Кошкин был простужен ещё до его начала, а нервное переутомление только усугубило плохое самочувствие. Он заболел пневмонией, но продолжал трудиться. Т-34 ещё требовал большого количества доработок, к тому же КБ-520 приступило к созданию новой модели Т-44.
Состояние конструктора ухудшалось. Прибывшие в Харьков московские медики провели операцию по удалению лёгкого. Кошкин был отправлен на реабилитацию в санаторий «Занки» под Харьковом, но это не ему помогло. 26 сентября 1940 года Михаил Ильич Кошкин скончался. На прощание с ним пришли все заводчане.



Могила талантливого конструктора не сохранилась – прицельными бомбовыми ударами её уничтожили немецкие оккупанты.
10 апреля 1942 года Михаилу Кошкину посмертно была присуждена Сталинская премия.
Долгое время создатель знаменитого танка был незаслуженно забыт. Все лавры от запуска машины в серийное производство достались Александру Морозову, сменившему его на посту руководителя КБ. Нередко Морозова называли «отцом тридцатьчетвёрки». Лишь в 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв присвоил Михаилу Кошкину звание Героя Социалистического Труда, а в 1998 году была выпущена почтовая марка в память о талантливом конструкторе.
Ссылки
- Страница в Википедии
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.
История создания танка Т-34 пришлась на период «большого террора» и во многом была трагичной для его создателей. Согласно канонической советской историографии, создание Т-34 связывают исключительно с именем главного конструктора Михаила Кошкина, сменившего в декабре 1936 года репрессированного Афанасия Фирсова. Следует отметить, что для разработки прорывной конструкции танка нужен был конструкторский гений, а Кошкин таковым не был.
Начало разработки первого советского танка
Для объективной оценки вклада каждого из них необходимо вернуться в то время, когда только начинала формироваться советская танковая школа. До конца 20-х годов в Союзе не было танков собственной разработки, только в 1927 году военные выдали требования на разработку первого советского «маневренного танка» с пулеметно-пушечным вооружением. Разработку танка Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста передало в Харьков на ХПЗ им. Коминтерна (завод №183), где для разработки танка была создана специализированная конструкторская группа (преобразованная в 1929 году в танковое конструкторское бюро Т2К), которую возглавил молодой талантливый конструктор Иван Алексенко (1904), руководивший КБ до 1931 года. В группе работали такие же молодые конструкторы, в том числе и будущий главный конструктор Александр Морозов.
В короткое время конструкторы разработали документацию на танк, и в 1929 году был изготовлен опытный образец танка Т-12. По результатам испытаний танк был переработан в танк Т-24, изготовлена опытная партия в количестве 25 машин, по результатам испытаний началась доработка их конструкции, но в июне 1931 года работы было приказано прекратить и начать проектирование колесно-гусеничного танка БТ.
Это было связано с тем, что военное руководство решило не вести «с нуля» разработку отечественных танков, а заимствовать опыт западных конструкторов и производить по лицензии зарубежные танки: американский «Кристи» М1931, ставший прототипом быстроходного БТ-2, и английский « «Виккерс шеститонный», ставший прототипом легкого Т-26. Производство БТ-2 разместили на ХПЗ, а Т-26 — на Ленинградском заводе «Большевик». Так в Союзе начали складываться две школы танкостроения.
В Харькове руководство ХПЗ и конструкторы противились такому повороту событий, не спешили внедрять в производство БТ-2 и старались завершить доводку Т-24. Москва настояла на своем решении, и работы по БТ-2 медленно стали набирать обороты. Начальник конструкторского бюро Т2К Алексенко считал, что копировать иностранную технику непатриотично, надо создавать свою танковую школу, и в знак несогласия подал заявление и уволился.
В КБ работала только молодежь, в основном без высшего технического образования, поддерживавшая устремлениями Алексенко довести свой танк Т-24. Для усиления КБ решением коллегии ОГПУ в декабре 1931 года начальником КБ был назначен талантливый и опытный инженер Афанасий Фирсов, сидевший в одной из московских «шарашек», приговоренный к пяти годам заключения за «вредительскую деятельность». Назначение Фирсова сыграло судьбоносную роль для КБ и советского танкостроения.
Кто такой Фирсов
Фирсов родился в 1883 году в семье бердянского купца, после окончания железнодорожного училища высшее образование получал в высшей технической школе в Митвайде (Германия) и политехническом институте в Цюрихе (между прочим, его заканчивал и Альберт Эйнштейн), специализировался на проектировании дизелей. Получив высшее образование, работал конструктором на заводе «Зульцер».
В 1914 году вернулся в Россию, на Коломенском машиностроительном заводе стал работать над созданием дизелей для подводных лодок, потом главным механиком завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде, а в 1927 году на Николаевских заводах имени Андре Марти — главным инженером по дизельному строительству.
В 1929 году как представитель «старорежимных сословий» проходил по делу о контрреволюционной вредительской группе на заводе, свою вину не признал, и ее не доказали, но в связи с такими подозрениями он в 1929 году уволился и переехал в Ленинград, где его как специалиста пригласили на завод «Русский дизель».
Шел 1930 год, начался процесс над членами Промпартии, среди обвиняемых оказался близкий знакомый Фирсова, ему припомнили «николаевское дело», арестовали и приговорили к пяти годам заключения. Квалифицированный специалист, он работал в одной из московских «шарашек» под непосредственным руководством Орджоникидзе, здесь он стал заниматься проблемами танкостроения, и в 1931 году под охраной был отправлен в Харьков возглавлять «непокорное» танковое КБ.
Вначале коллектив создателей Т-24 не очень приветливо встретил назначенца «сверху», но одаренный и разносторонне развитый Фирсов, инженер с энциклопедическими знаниями, быстро завоевал авторитет и уважение. По свидетельству современников, находясь под круглосуточным контролем ОГПУ и живя при заводе, поскольку семья осталась в Ленинграде, он с головой окунулся в работу. Фирсов умел хорошо и четко организовать труд своих подчиненных, выдержанный, уравновешенный в общении, он стремился передать свой опыт подчиненным. Вместе с ними изучал технические новинки зарубежных фирм, поощрял изучение иностранных языков.
Разработка семейства таков БТ и дизельного двигателя В2
Перед Фирсовым бала поставлена задача организовать на заводе качественное производство танков БТ-2, которые имели много недоработок и дефектов в основных агрегатах, силовой установке и узлах ходовой части. Двигатель «Либерти», покупаемый в США, был капризным, нередко перегревался, при пуске были случаи его возгорания. Освоение серийного производства этих танков шло с трудом также в связи с отсутствием на заводе базы, способной освоить производство нового танка в таких количествах, из армии часто приходили рекламации о выходе из строя коробок передач.
Фирсов с коллективом молодых конструкторов приложил много труда для доработки конструкции танка и совершенствования технологии его производства. Постепенно проблемы уходили, под его руководством были разработаны танки БТ-5 и БТ-7, продолжившие линейку машин этого семейства. В 1935 году за разработку танка БТ-7 Фирсова наградили орденом Красного Знамени.
На заводе с 1932 года под руководством начальника дизельного одела Константина Челпана велась разработка 400-сильного танкового дизельного двигателя БД-2 (быстроходный дизель), будущего В2. Челпан не раз свидетельствовал, что квалифицированный специалист по дизелям Фирсов внес большой вклад в создание этого двигателя. Военные и лично Сталин внимательно следили за ходом работ по дизелю. Первый образец БД-2 был продемонстрирован руководству страны в 1934 году. За эту разработку завод, директор Бондаренко и Челпан были удостоены орденов Ленина.
Концепция нового танка и репрессии
Занимаясь совершенствованию колесно-гусеничных танков семейства БТ, опытный инженер Фирсов видел, что это тупиковое направление, здесь не может быть прорыва. Он начал искать пути создания принципиально нового танка, под его руководством небольшая группа в составе Александра Морозова, Михаила Таршинова и Василия Васильева в течение 1935 года вела проработки такого танка.
Фирсов заложил первичный технический облик будущего Т-34 и его основные технические характеристики. Васильев вспоминал:
Уже в конце 1935 г. на столе главного конструктора лежали проработанные эскизы принципиально нового танка: противоснарядное бронирование с большими углами наклона, длинноствольная 76,2-мм пушка, дизельный двигатель В-2 , масса до 30 т…
От танка семейства БТ новый танк получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от колесно-гусеничного движителя отказались в пользу чисто гусеничного.
В 1936 году ХПЗ им. Коминтерна переименовывают в завод №183, а КБ Т2К присваивают индекс КБ-190, в конструкторском бюро ведется проработка узлов и агрегатов нового танка, но летом 1936 года на заводе начинаются репрессии. Причиной послужили массовые рекламации из войск по причине выхода из строя коробок передач танков БТ-7. В конструкции танка действительно были конструктивные недостатки, к тому же войсках увлеклись эффектными прыжками на этом танке с трамплина, что, естественно, влияло на работоспособность БТ-7. Машину стали называть «вредительским танком», Фирсова отстранили от должности, но оставили работать в КБ.
Вместо Фирсова в декабре 1936 года Орджоникидзе, хорошо знавший Михаила Кошкина, переводит его из Ленинграда в Харьков и назначает начальником КБ-190. Нового главного конструктора встречал лично Фирсов, продолжавший работать в КБ вплоть до ареста и кропотливо вводивший его в курс дела.
За короткое время Морозовым под руководством Фирсова была разработана новая коробка передач, внедрена в производство, и вопрос был закрыт, но приближались 1937 год и «большой террор». Фирсову не забыли его «вредительскую деятельность» в Николаеве и Ленинграде. В марте 1937 года его вновь арестовали и отправили в тюрьму в Москву. Некоторое время он там содержался вместе с еще одним «вредителем» — авиаконструктором Туполевым.
Репрессии коснулись не только Фирсова, которого вскоре расстреляли, а многих руководителей и инженеров завода и КБ. В 1937 году на завод из Москвы направили комиссию для выяснения причин низкого качества двигателей БД-2, которая выявила недоработки в конструкции двигателя и несоблюдение технологии его производства.
По результатам работы комиссии двигатель доработали, внеся в него до двух тысяч изменений, но оргвыводы были сделаны. Челпана отстраняют от работы и в декабре 1937 года арестовывают вместе с конструкторами: дизелистами Трашутиным, Аптекманом, Левитаном и Гуртовым, всех, кроме Трашутина, расстреливают за «вредительство», последнего в 1939 году освобождают. Арестовывают главного инженера завода Ляща, главного металлурга Метанцева и многих других инженеров и военпредов. В мае 1938 года был арестован и вскоре расстрелян директор завода Бондаренко.
По воспоминаниям Васильева, репрессии вызвали настоящую фобию в КБ-190. Он вспоминал:
«Надо сказать, лично я перенёс эту фобию очень тяжело, спал и прислушивался к звукам приближения «чёрного ворона» с парой людей в штатской одежде, приглашающих вас в вежливой форме следовать за ними».
В таких условиях страха и ожидания ареста продолжалась разработка нового танка.
Кто такой Кошкин
После Фирсова КБ-190 принял Кошкин. Кем он был до этого? Кошкин был партийным функционером и зарекомендовал себя хорошим организатором. Был лично знаком с Орджоникидзе и Кировым. За два года до назначения в Харьков он закончил Ленинградский политехнический институт и потом работал конструктором в танковом КБ Ленинградском заводе им. Кирова. На этом его опыт в разработке танков заканчивался. Орджоникидзе направил его в КБ-190 как опытного организатора для разрешения тяжелой ситуации, сложившейся на танковом заводе.
Кошкин действительно оказался талантливым руководителем, он достойно оценил молодой коллектив конструкторов и уникальность предложенной Фирсовым концепции нового танка. До этого он работал на достаточно высоких административных и партийных должностях и был вхож в высшие инстанции, там он сумел доказать перспективность работы над новым танком и убедил не продолжать репрессии против сотрудников КБ. Под руководством Кошкина работы над танком в той сложной ситуации продолжились.
Противостояние Кошкина и Дика
Для усиления КБ-190 в июне 1937 года направляется адъюнкт московской Военной академии механизации и моторизации военинженер 3-го ранга Дик с не совсем понятными целями. Ему подчинили часть конструкторов, и в бюро воцарилось двоевластие, которое ничем хорошим закончиться не могло. В этот период КБ работало над модернизацией танка БТ-7 и разработкой нового танка БТ-9, отличавшегося наличием шести ведущих колёс, дизельным двигателем, конической башней с 45-мм или 76-мм пушкой и наклонной бронёй. Совместная работа Кошкина и Дика не складывалась, они обвиняли друг друга в неправильных конструкторских решениях, в срыве, а иногда и саботаже работ. Количество взаимных претензий росло, а работа не двигалась.
Московскому руководству надоели конфликты, и в сентябре 1937 года танковое КБ-190 разделили на два. Отдельное ОКБ во главе с Диком подчинили непосредственно главному инженеру завода, начальниками секций в ОКБ стали Дорошенко, Таршинов, Горбенко, Морозов и Васильев. ОКБ должны были пополнить 50 выпускниками военной академии, а в качестве консультанта привлекли известного испытателя танков капитана Кульчицкого.
Кошкин остался начальником КБ-190, которое должно было заниматься исключительно разработкой модернизированных вариантов БТ-7, а ОКБ должно было разрабатывать новый танк БТ-9 (БТ-20), сопровождение серийного производства на заводе осуществляло КБ-35.
В октябре 1937 года было выдано ТТТ на новый колесно-гусеничный танк с тремя парами ведущих колес, толщиной лобовой брони 25 мм, 45-мм или 76,2-мм пушкой и дизельным двигателем.
В основу разработки нового танка была положена концепция Фирсова, которая далее развивалась Морозовым и Таршиновым. Прокатившаяся в ноябре-декабре 1937 года волна арестов на заводе дезорганизовала работу по новому танку, в срыве работ обвинили Дика, которого в апреле 1938 года арестовали и осудили на десять лет, на этом его карьера закончилась.
Кошкин завершает разработку танка
Дальше не совсем понятно, как Кошкин в тех условиях создает КБ-24 и продолжает работы по новому танку. По крайней мере, в середине марта 1938 года на заседании коллегии Автобронетанкового управления и в конце марта на заседании Комитета обороны проект колесно-гусеничного танка представляли Кошкин и Морозов. Эскизный проект танка был утвержден с замечаниями увеличить бронирование до 30 мм и установить 76,2-мм пушку. Одновременно под руководством Кошкина в конце 1938 года был разработан и запущен в серийное производство танк БТ-7М с двигателем В2, подтвердивший возможность применения на танке нового дизельного двигателя.
Кошкин продолжал биться за гусеничный вариант танка, и в сентябре 1938 года завод получил задание на разработку двух вариантов танка: колесно-гусеничного А20 и гусеничного А-20Г (А32).
Для объедения усилий все три конструкторских бюро завода объединяются в одно КБ-520 во главе с Кошкиным, заместителем главного конструктора стал Морозов, а заместителем начальника КБ — Кучеренко. В кратчайшие сроки образцы танков были изготовлены, и в июне-августе 1939 года прошли на полигоне в Харькове испытания. Оба танка выдержали испытания, но конструкция А-32 была намного проще за счет отсутствия сложного колесного движители и имела запас по весу.
В сентябре при показе бронетанковой техники руководству Минобороны участвовали А-20 и А32, где последний выступил очень эффектно. По результатам испытаний и показа было принято решение остановиться на гусеничном варианте танка А-32, усилив его бронезащиту до 45 мм.
На заводе началось срочное изготовление двух танков А-32. Узлы и детали танка тщательно изготавливали и придирчиво собирали, резьбовые соединения пропитывались горячим маслом, тщательной отделке подвергались внешние поверхности корпуса и башни. Опытный аппаратчик Кошкин отлично понимал, что при показе танков высшему руководству мелочей не бывает.
Дальше произошел хорошо известный пробег танков из Харькова в Москву, успешный показ в Кремле танков Сталину, пробег обратно в Харьков, болезнь и трагическая смерть Кошкина. После показа на высшем уровне танки прошли испытания на Кубинке и на Карельском перешейке, танк получил высокую оценку самого Сталина, ему была дана путевка в жизнь.
Так конструкторский гений Фирсова и организаторские таланты Кошкина смогли в условиях развернувшихся репрессий и недопонимания военными перспектив развития танков создать машину, ставшую символом Победы в той страшной войне. Оба они, несомненно, внесли громадный вклад в создание этой машины, но приписывать все лавры только Кошкину несправедливо.
Концепция танка и его компоновка была задумана Фирсовым, под его руководством основные узлы танка были проработаны в подразделениях КБ, а завершали разработку танка специалисты, начавшие его проектировать под руководством Фирсова. Костяк ведущих конструкторов был сохранен, и Кошкин в той трагической ситуации организовал работу по завершению разработки танка и добился принятия его на вооружение. Фамилии Фирсова и Кошкина как главных конструкторов Т-34 могут достойно стоять рядом.
Автор:
Юрий Апухтин
В данной статье речь пойдет о легендарном советском конструкторе Михаиле Ильиче Кошкине, которому страна обязана появлением на вооружении СССР не менее легендарного танка Т-34. Немногие знают, что эта бронемашина стала для своего создателя не только причиной его всемирной славы, но и, отчасти, причиной его безвременной гибели.
Начало биографии
Малая родина «отца Т-34» — село Брынчаги Ярославской губернии. Он родился в обычной крестьянской семье, где кроме него было еще двое детей. Жили бедно, отец занимался отхожими промыслами. Михаилу не было еще и 7 лет, когда главы семейства не стало: он надорвался на лесозаготовках и скоропостижно скончался. Его матери пришлось идти в батрачки, а самому Михаилу, окончив всего 3 класса церковно-приходской школы, ехать в Москву на заработки, чтобы семья могла хоть как-то сводить концы с концами.
Устроившись в качестве подмастерья в карамельный цех кондитерской фабрики, позже получившей название «Красный октябрь», Михаил Кошкин всего за 8 лет работы добился должности специалиста по обслуживанию карамельных аппаратов.
Перед Февральской революцией он был призван в ряды Русской императорской армии, участвовал в Первой мировой, а потом и в гражданской войне. Примкнув к красным, Кошкин сражался под Царицыным и Архангельском, воевал против Врангеля.
В смелом, инициативном и решительном бойце руководство быстро рассмотрело перспективного политработника и управленца. После того, как Кошкин оправился от нескольких полученных ранений, а также от перенесенного тифа, он был направлен в столицу – учиться в Коммунистическом университете им. Свердлова. Окончив ВУЗ, Кошкин в течение 5 лет работал на руководящих должностях Вятской кондитерской фабрики.
От карамели к танкам
Изучая молодые годы Михаила Кошкина, возникает вопрос: как столь далекий от машиностроения человек стал впоследствии известным конструктором танков?
Отечественное танкостроение до 1929 года представляло собой жалкое зрелище. Собственное производство отставало от мировых наработок на десяток лет, в распоряжении армии было небольшое количество трофейных машин. Обеспечение войск современной бронетехникой было ключевым моментом в сохранении обороноспособности страны.
За неимением достаточного количества квалифицированных кадров, многих политработников было решено послать на переобучение. Среди них оказался и Михаил Кошкин, которому пришлось сесть за парту Ленинградского политехнического института в возрасте 30 лет. Будучи студентом машиностроительного факультета, он проходил практику в конструкторском бюро при Ленинградском заводе опытного машиностроения №185. Темой его дипломной работы стала коробка передач среднего танка, которая в скором времени была установлена на экспериментальном Т-29.
По окончании института Михаил Кошкин 2,5 года проработал в Ленинграде, пройдя путь от рядового инженера-конструктора до заместителя руководителя КБ. В конце 1936 года его назначили начальником танкового КБ при Харьковском заводе №183. Именно в его стенах будет спроектирована легендарная «тридцатьчетверка».
Разработка танка Т-34
Кошкин приехал в Харьков на место Афанасия Фирсова, который в то время проходил по делу о вредительстве. Танки БТ-7, которые выпускал завод, имели ряд недостатков и массово выходили из строя. Уже при Кошкине БТ-7 были модернизированы: бронемашины получили новый двигатель.
Осенью 1937 году КБ получает от военного руководства страны задание на разработку новой модели среднего танка. В технических требованиях было указано, что машина должна быть колесно-гусеничной. Так появился А-20, а за ним и А-32 – гусеничная модификация. Именно последний показал на испытаниях лучшие результаты. Помимо полигонных заездов А-32 прошли боевое крещение в суровых условиях советско-финской войны. Учитывая все замечания, танк был доработан: броню нарастили до 45 мм, орудие заменили на более мощное (76-миллиметровую пушку). В таком варианте танк был одобрен высшим руководством и получил официальное название – Т-34.
Легендарный пробег
Средний танк Т-34 был принят на вооружение 19 декабря 1939 года, но о начале серийного производства говорить было рано. Первая пара экспериментальных образцов была собрана к 10 февраля 1940 года. На 17 марта в Москве был назначен смотр военной техники. Представилась возможность продемонстрировать новый танк членам Советского правительства. Уже гремела Вторая мировая, и все понимали, что рано или поздно, такой гигант, как Советский Союз, в нее ввяжется. Вот только с каким вооружением?
Кошкин торопился сам и торопил коллег. Чтобы пустить новый танк в серию, необходимо было, чтобы опытные машины накатали определенный километраж. Сделать это в заводских условиях и успеть к московскому смотру не представлялось возможным. Было решено совершить пробег из Харькова в Москву, чтобы его танки сумели намотать недостающий пробег уже в дороге.
Ранним утром 5 марта 1940 года от ворот Харьковского завода вышла колонна, состоявшая из двух танков Т-34 и двух тягачей «Ворошиловец». Одна из машин сопровождения была обустроена под жилое помещение, вторая – под завязку нагружена запчастями. Многие скептически относились к этому танковому марафону. Мало кто верил, что экспериментальные танки смогут достигнуть столицы без тотальных поломок.
Чтобы сохранить секретность, маршрут проложили в объезд населенных пунктов. Преодолевать водные препятствия по мостам разрешалось лишь в ночное время и в случае крайней необходимости. Т-34 с экзаменом справились: 17 марта они уже гремели траками по Ивановской площади Московского Кремля.
На смотре машины Кошкина продемонстрировали Сталину и его приближенным отличную маневренность. Высшее руководство страны высоко оценило новую разработку. Сам Отец народов назвал Т-34 «ласточкой» советских бронетанковых сил.
Последствия для «отца тридцатьчетверки»
Боевое отделение танка Т-34 нельзя было назвать уютным, особенно в мартовскую погоду. Еще на марше Михаил Кошкин сильно простудился, но не придал этому значения. Конструктор так «горел» за свое детище, что плюнул на собственное здоровье и работал на износ. Уже после триумфального смотра, когда его пригласили в Большой театр, где собрались высшие чиновники СССР, многие присутствовавшие отмечали у Кошкина сильный изнуряющий кашель. Ворошилов посоветовал ему возвращаться в Харьков на поезде, но конструктор наркома не послушал. Домой он отправился все на том же Т-34.
На обратной дороге, недалеко от Орла, один из танков угодил в реку. Кошкин вместе со всеми помогал вытаскивать машину, чем еще больше усугубил свою болезнь. Вернувшись в Харьков, ему пришлось лечь в больницу – запущенная простуда обернулась пневмонией. И даже тогда он посещал завод и пытался налаживать серийное производство своего Т-34.
Колоссально переутомленный и ослабленный тяжкой болезнью организм не выдержал. Лучшие московские врачи, прибывшие в Харьков для лечения выдающегося конструктора, вынуждены были провести операцию по удалению легкого. После хирургического вмешательства Михаила Кошкина направили на реабилитацию в санаторий «Занки». Там, 26 сентября 1940 года он ушел из жизни.
Михаил Кошкин был погребен на 1-м городском кладбище Харькова. По некоторым данным фюрер считал Кошкина личным врагом и распорядился нанести по месту захоронения бомбовый удар. Могила его не сохранилась, но дело продолжало жить. Не прошло и года, как немецкие танкисты на собственной шкуре прочувствовали, что такое советский Т-34. Русский танк наводил ужас и сеял панику в рядах фашистов.
И пусть Михаил Кошкин не видел триумфа своего детища и не участвовал в Великой Отечественной, он выиграл ее еще до того, как немецкие войска вторглись в западные границы СССР. Выиграл, сидя в своем КБ над бесчисленными чертежами Т-34 – танка, по праву ставшего символом нашей Победы и лучшим танком XX века.
К 125-летию со дня рождения авиаконструктора С. В. Ильюшина.
125 лет назад родился Сергей Владимирович Ильюшин — выдающийся советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда, семикратный лауреат Сталинской премии, генерал-полковник-инженер, академик АН СССР.
Ильюшин — разработчик легендарного штурмовика Ил-2. Сегодня его имя носит ОКБ, среди текущих проектов которого легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые военно-транспортные самолеты, самолеты радиоэлектронной борьбы и пассажирские лайнеры.
***
Советский ученый и авиаконструктор, генерал-полковник-инженер (1967), доктор технических наук (1940), профессор (1948), академик АН СССР (1968), трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974) Сергей Владимирович Ильюшин родился 30 марта 1894 года в деревне Дилялево Вологодской губернии (ныне входит в состав Новленского сельского поселения Вологодской области).

Сергей Владимирович был младшим ребенком в многодетной крестьянской семье. Его детство и отрочество прошли на рубеже XIX–XX вв. в трудных условиях жизни русской деревни.
В автобиографии С. В. Ильюшин писал:
«Тяжелую физическую работу я стал выполнять очень рано, начав пахать землю в 1906 году, когда мне было всего лишь 12 лет, так как отцу в то время было уже 63 года, а матери 56 лет, и она уже не в состоянии была пахать землю».
В том же 1906 году он окончил земскую школу. В дореволюционной России это были начальные школы, с трех- или четырехлетним сроком обучения и одним или двумя учителями. Они отличались лучшей постановкой учебно-образовательной работы по сравнению с министерскими и церковно-приходскими школами. По лучшим учебникам того времени в школе он учил чтение, письмо, арифметику, закон божий, а также основы природоведения, географии и истории.
Однако начальное образование не даёт специальности и постоянной работы, что вынуждало молодого паренька при пожилых родителях перебиваться случайными заработками.
Он трудился землекопом, косил сено, подрабатывал на красильной фабрике, затем разнорабочим на Коломяжском ипподроме Санкт-Петербурга, там же принял участие в создании на базе ипподрома Комендантского аэродрома.
В сентябре–октябре 1910 года на базе аэродрома прошел первый всероссийский праздник воздухоплавания, где были продемонстрированы достижения отечественной авиации. Именно этот эпизод сыграет ключевую роль в его судьбе. Однако на данном этапе своей жизни С. В. Ильюшин продолжал поиск достойной работы и в конце 1911 года поехал на строительство Амурской железной дороги, откуда спустя год переехал на строительство судостроительного завода в город Ревель (ныне — Таллин, Эстония) — «под крыло» старшего брата.
С началом Первой мировой войны его призывают в русскую императорскую армию, где он отбывает воинскую повинность с декабря 1914 года. Службу проходил в пехоте и начал ее в учебной команде, где до октября 1915 года изучал премудрости военного дела, а затем служил писарем роты.
По стечению обстоятельств из пехоты Ильюшин был направлен для прохождения службы в авиацию, на тот же Комендантский аэродром.
Участник Первой мировой войны. Воевал в составе аэродромной команды военного Комендантского аэродрома: помощник моториста, младший моторист, старший моторист, браковщик по самолетам. В 1917 году он поступил и окончил школу летчиков. Февральская, а затем Октябрьская революции в России и последующие события привели к демобилизации С. В. Ильюшина.
В 1919 году призван в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Службу проходил механиком 6-го авиаремонтного поезда на Северном фронте. С февраля 1920 года С. В. Ильюшин переведен в Саратов старшим механиком, комиссаром 2-го авиационного парка Кавказского фронта. В феврале — июне 1921 года — начальник 15-го поезда 9-й Кубанской армии Кавказского фронта.
После войны С. В. Ильюшин в 1921 году поступил в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В ноябре 1922 года на базе Института создана Академия Воздушного Флота имени профессора Н. Е. Жуковского, которая с 1925 года стала именоваться Военно-воздушной академией РККА.
В 1923 году в академии было создано Военно-научное общество, в составе которого С. В. Ильюшин становится руководителем моторной секции и с этого момента он начинает заниматься научной работой, конструированием, постройкой и испытанием планёров. С окончанием академии в 1926 году С. В. Ильюшину присвоено звание инженера-механика Воздушного флота, и он назначается председателем самолетостроительной секции Научно-технического комитета ВВС.
В ноябре 1931 года С. В. Ильюшин — заместитель начальника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и начальник Центрального конструкторского бюро (ЦКБ). 13 января 1933 года С. В. Ильюшин создает ЦКБ при московском заводе имени В. Р. Менжинского, которое в дальнейшем станет Опытным конструкторским бюро (ОКБ), и возглавляет его в должности главного конструктора. ОКБ занималось созданием бомбардировщиков, штурмовиков и пассажирских самолетов.
В 1935 году под руководством С. В. Ильюшина был построен двухмоторный дальний бомбардировщик ЦКБ-26, на базе которого в дальнейшем были разработаны такие его модификации, как ДБ-3 (1937), ДБ-3Ф (1938) и Ил-4 (в серийном производстве с 1940 года). На первых боевых самолётах ЦКБ-26 (ЦКБ-30 и ЦКБ-30Ф), созданных в ОКБ, было установлено несколько мировых рекордов высоты с различными грузами.
Дальний бомбардировщик ДБ-3 (ЦКБ-30)
Двухмоторный дальний бомбардировщик Ил-4
В 1938–1939 годах на самолётах Ильюшина были совершены беспосадочные перелёты Москва — Спасск (Дальний Восток) и Москва — остров Мискоу (Северная Америка).
В 1939 году ОКБ Ильюшина создает бронированный штурмовик Ил-2 (принят на вооружение в 1941 году). В последующем многоцелевой самолёт Ил-4 станет основным дальним бомбардировщиком и торпедоносцем периода Великой Отечественной войны. Ил-2 положил начало новому роду боевой авиации и новой тактике её применения. 20 сентября 1940 года главному конструктору С. В. Ильюшину без защиты диссертации присвоена ученая степень доктора технических наук.
С началом Великой Отечественной войны С. В. Ильюшин оставался в прежней должности. 25 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за исключительные заслуги перед государством в области создания новых типов боевых самолетов» С. В. Ильюшину присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В ходе войны в ноябре 1942 года руководителю ОКБ присваивается воинское звание генерал-майора инженерно-авиационной службы.
В 1943 году ОКБ Ильюшина разработало штурмовик Ил-10, имевший меньшие размеры и лучшие аэродинамические характеристики, чем прежние самолёты (стал поступать на вооружение в 1944 году). Данный факт не остался без внимания правительства: С. В. Ильюшин становится генерал-лейтенантом инженерно-авиационной службы, а его детище на знамя предприятия добавляет к ордену Ленина, полученному в 1942 году, боевой орден Красного Знамени.
После войны под руководством С. В. Ильюшина были разработаны и построены штурмовики Ил-16, Ил-20 с поршневыми моторами, Ил-40 с двумя реактивными двигателями.
Опытный штурмовик Ил-20
В 1946 году коллектив ОКБ Ильюшина выпустил первый пассажирский самолёт Ил-12. В том же году выпущен экспериментальный реактивный бомбардировщик Ил-22 с четырьмя двигателями. В 1948 году принят на вооружение первый советский фронтовой реактивный бомбардировщик Ил-28.
Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М
Продолжая работать над совершенствованием бомбардировщиков, КБ под его руководством разработало такие самолеты, как Ил-46 и Ил-54.
Бомбардировщик Ил-54
С 1956 года С. В. Ильюшин — генеральный конструктор ОКБ. В 1957 году под его руководством был создан многоместный турбовинтовой самолёт Ил-18, который длительное время являлся одним из основных самолётов СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года «за заслуги в деле создания новых самолетов» С. В. Ильюшин был удостоен второй золотой медали «Серп и Молот».
Пассажирский турбовинтовой самолёт Ил-18
С 1958 по 1969 год на самолете Ил-18 было установлено 22 мировых рекорда.
Последним самолётом С. В. Ильюшина стал трансконтинентальный лайнер Ил-62. В 1970 году по состоянию здоровья Сергей Владимирович уходит с руководящей работы, сохранив за собой научно-технические функции. За исключительные заслуги в развитии авиационной науки и советского самолетостроения и в связи с юбилеем Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1974 года С. В. Ильюшин был награжден третьей золотой медалью «Серп и Молот».
Как ученый и авиаконструктор С. В. Ильюшин создал свою научную школу в области самолётостроения, внес крупный вклад в развитие отечественной авиации.
В последующие годы коллектив ОКБ имени С. В. Ильюшина создал реактивный транспортный самолёт Ил-76 в различных модификациях и первый в Советском Союзе широкофюзеляжный пассажирский самолёт (аэробус) Ил-86, самолёты Ил-96-300 и Ил-114.
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт Ил-96-300
С. В. Ильюшин умер 9 февраля 1977 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
За свою научную и конструкторскую деятельность Сергей Владимирович награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степеней, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.
Лауреат Ленинской премии (1960), Сталинских и Государственной премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952, 1971). Почетный гражданин города Вологды. В Москве и Вологде установлены бронзовые бюсты С. В. Ильюшина. Его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде и др. городах.
Бюст советского авиаконструктора С. В. Ильюшина в Вологде
Читайте также: «Это Путин!? Русские великолепны!» — иностранцы поражены манёвром звена истребителей Су-30 (ВИДЕО)
Научно-исследовательский институт военной истории ВАГШ ВС РФ (Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации)
Как одиннадцатый сын бедного вологодского крестьянина стал создателем легендарных самолетов ХХ века
Стоит только назвать эту фамилию, и среднестатистический житель нашей страны тут же откликнется: «А, конечно, штурмовик Ил-2!» Более продвинутый любитель военной истории, особенно авиационной, немедленно подхватит: «Не забывайте про Ил-28: уникальный бомбардировщик!» Те, кто постарше, успел застать времена позднего застоя и имел редкую по той поре возможность выехать за границу хотя бы в страны соцлагеря, наверняка добавят: «На Кубу через океан на Ил-62 летали — самый дальний самолет в СССР был…» А заговори с военным или спасателем, и первое, что услышишь: «Вот «Матрена» — это да, это транспортник! Какая «Матрена»? Так Ил-76, какая же еще!»
Все четверо будут правы. И все четверо прекрасно иллюстрируют главную, удивительную способность этого авиаконструктора. Действительно, за что бы ни брался трижды Герой Социалистического Труда генерал-полковник-инженер Ильюшин Сергей Владимирович — за штурмовик или бомбардировщик, пассажирский лайнер или транспортный самолет, — у него каждый раз получалась уникальная машина.
Если сравнивать количество самолетов, созданных в КБ Ильюшина, с числом работ его коллег-авиаконструкторов, перевес будет, пожалуй, в пользу последних. Но если ориентироваться на такой странный, субъективный показатель, как количество крупносерийных и знаменитых самолетов, то, пожалуй, пальму первенства поделят между собой Ильюшин и Туполев, в затылок которым будут дышать Микоян и Гуревич. А если еще взять в расчет такой показатель, как разнообразие типов «летающих знаменитостей», то, наверное, Ильюшина не перегонит никто.
Судите сами. Ниже — простое перечисление наиболее значимых машин, созданных в ОКБ Ильюшина и под его непосредственным руководством.
Самый массовый боевой самолет в истории авиации — тяжелый штурмовик Ил-2: выпущено 36 183 штуки.
Ил-2. Фото: planetavvs.ru
Самый массовый реактивный бомбардировщик в истории авиации — фронтовой бомбардировщик Ил-28: выпущено 6316 самолетов.
Первый советский пассажирский лайнер, сконструированный не на основе бомбардировщика, а с самого начала задуманный как гражданский самолет, — Ил-18, пошедший в серию в 1959 году. Выпущено 678 штук, не считая многочисленных военных и специализированных модификаций. До сих пор летает.
Ил-28. Фото: topwar.ru
Первый советский пассажирский лайнер, пользовавшийся спросом на мировом рынке, — тот же Ил-18: построено свыше 100 самолетов для 17 иностранных компаний.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет — Ил-62: пошел в серию в 1966 году, выпущено 292 единицы, летает до сих пор.
Ил-62 — экспонат музея Военно-воздушных сил в Монино. Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Основной советский и российский военно-транспортный самолет — Ил-76, пошедший в серию в 1973 году и выпускающийся до сих пор. На сегодняшний день количество построенных самолетов превышает 1000, а эксплуатироваться они будут еще как минимум полтора десятка лет.
А ведь 100 с небольшим лет назад никто и предположить не мог, что создателем всех этих машин будет одиннадцатый сын крестьянина Вологодской губернии, подвизавшийся землекопом на Коломяжском ипподроме в Петербурге, где вот-вот должна была начаться первая Российская международная авиационная неделя…
Ил-76. Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
С крестьянского поля на взлетное
«Доавиационная» жизнь будущего конструктора Сергея Ильюшина была типичной для большинства жителей аграрной России конца XIX — начала XX века. Он родился 30 марта (18 марта по старому стилю) 1894 года в бедной крестьянской семье в деревне Дилялево Вологодской губернии. Одиннадцатый сын, да еще и «последыш», то есть последний, самый младший, Сережа с 12 лет был вынужден помогать родителям по хозяйству. Правда, и хозяйство было небольшим. В одной из своих автобиографий Сергей Владимирович описал его так: «Имущество родителей состояло из дома, коровы, лошади, а также небольшого крестьянского скарба. При этом в 1912 году отец продал лошадь. Обрабатываемая родителями земля состояла из двух душевных десятин, которые принадлежали казне, поэтому за использование земли приходилось платить оброк».
Ил-18. Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Научившись читать в шесть лет, Сергей Ильюшин легко отучился в земской школе те три года, которые ему отвела на то крестьянская жизнь. Вопреки ожиданиям, любимым предметом мальчика была вовсе не математика, а русский язык и география — повезло с учителями, которые преподавали эти дисциплины. А после них главным учителем юного Ильюшина стала сама жизнь.
Ил-4. Фото: aviarmor.net
Как только Сергею исполнилось 15 лет, он по примеру своих старших братьев подался из деревни на заработки в город. За шесть лет Ильюшин сменил множество профессий и мест работы. Начинал чернорабочим на костромской фабрике промышленника Яковлева, потом работал на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, трудился в имении «Осипово» в Вологде, подвизался на заводах «Невский» и «Тентелеевский». Успел побывать возчиком молока на вологодском маслодельном заводе, смазчиком на станции Бурея Амурской железной дороги и даже помощником машиниста экскаватора на строительстве Русско-Балтийского судоремонтного завода в Ревеле.
Ил-4Т. Фото: aviarmor.net
Среди множества этих работ была и одна, которая, наверное, осталась бы незаметной, не будь она связана с авиацией. В 1910 году земляки посоветовали Ильюшину наняться разнорабочим на Коломяжский ипподром под Санкт-Петербургом, который готовили к проведению первой в России международной авиационной недели. С 25 апреля по 2 мая 1910 года на ипподроме и в воздухе над ним показывали свои технику и мастерство пять зарубежных пилотов, приглашенных специально для этого мероприятия Императорским всероссийским аэроклубом, и один-единственный российский летчик — Николай Попов, незадолго до этого получивший во Франции диплом пилота № 50.
Ил-12. Фото: backbook.me
Землекоп Илюшин занимался на ипподроме всем, что говорили: засыпал ямы, срезал кочки, вывозил мусор. Но первая встреча с авиацией прошла для него незамеченной: вдоволь насмотреться на полеты иностранных летчиков ему не удалось. Зато через полгода, когда на соседнем Комендантском аэродроме готовились к первому Всероссийскому празднику воздухоплавания, Ильюшину повезло куда больше. Молодого землекопа привлекли к приемке и распаковке частей аэропланов — рабочих рук на заре авиации вечно не хватало.
DC-3. Фото: a2eadvisors.com
Большой праздник открылся 8 сентября 1910 года. В небе над Комендантским аэродромом парили легендарные российские пилоты Уточкин, Мациевич, Попов, Ефимов… Неуклюже отрывались от земли аэропланы-«этажерки», величественно парил дирижабль «Лебедь», поднимались в корзинах аэростатов армейские генералы и члены императорской фамилии… Небывалое мероприятие растянулось на две с лишним недели, почти до конца сентября. Как вспоминал сам Сергей Владимирович Ильюшин, «со времени Всероссийского праздника авиации у меня и появилась любовь к авиации». И эту любовь не смогла поколебать даже первая авиационная катастрофа в истории России: 24 сентября, в один из последних дней праздника, прямо в воздухе разрушился «Фарман» капитана Льва Мациевича, и пилот погиб.
Ли-2.Фото: mreadz.com
Школа авиаторов и академия Жуковского
Родившаяся на Комендантском аэродроме любовь к авиации оставалась с Ильюшиным до конца его дней. Именно она привела его, мобилизованного в армию осенью 1914 года, в аэродромную команду все того же Комендантского аэродрома. Причем на сей раз Сергей сам помог осуществиться своей мечте: когда в 1916 году в Вологодскую учебную пехотную команду пришло распоряжение откомандировать семерых солдат для службы на аэродроме, Ильюшин убедил составлявшего списки унтера внести туда и его фамилию.
Ил-14. Фото: aviapanorama.su
«В аэродромной команде я последовательно работал в качестве помощника моториста, младшего моториста, старшего моториста и браковщиком по самолетам, работал на многих типах самолетов, начав работу с мытья хвостов», — вспоминал впоследствии сам Сергей Ильюшин. В обязанности членов аэродромной команды входило не только обслуживание, но и приемка самолетов, выпускавшихся петербургским заводом «Санкт-Петербургское Товарищество В.А. Лебедев и К»: французских «Вуазенов» и российских «Лебедей» (конструкции самого Лебедева).
Здесь же, на Комендантском аэродроме, действовала и авиашкола Императорского всероссийского аэроклуба, в которую с осени 1914 года начали принимать вольноопределяющихся и солдат. В 1917 году именно в этой школе Сергей Ильюшин и получил первые летные уроки. Как вспоминал сам авиаконструктор, после одного из первых полетов инструктор внезапно сказал ему, что человек с такими точными и плавными движениями может прямо сейчас претендовать на получение диплома авиатора. Но закон есть закон: за лето Ильюшин прослушал весь курс обучения и отлетал положенные 23 летных дня, после чего и получил вожделенную синюю книжечку — удостоверение пилота-авиатора Международной воздухоплавательной федерации, представителем которой в России был Императорский всероссийский аэроклуб.
Ил-20. Фото: aviapanorama.su
Однако повоевать в качестве пилота Ильюшину не довелось. Выпуск его пришелся на канун Октябрьской революции. Вскоре после нее аэродромную команду расформировали, и молодой летчик вернулся к себе на Вологодчину. И только в 1919 году, когда Сергея Ильюшина, уже успевшего вступить в партию большевиков и поработать на благо нового государства рабочих и крестьян, вновь призвали на службу, он вернулся в авиацию — чтобы больше не расставаться с ней никогда.
Гражданскую войну Сергей Владимирович Ильюшин прошел, последовательно поднимаясь по ступенькам служебной лестницы авиационно-технических специалистов Красного воздушного флота. Сначала он был назначен авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда, который подчинялся 6-й армии Северного фронта. Затем весной 1920-го Ильюшин стал старшим авиамехаником, а потом и комиссаром 2-го авиационного парка Кавказского фронта. В феврале 1921 года хорошо проявившего себя специалиста и пламенного большевика назначают начальником 15-го авиационного поезда 9-й Кубанской армии Кавказского фронта и Отдельной Кавказской армии. Именно с этой должности Ильюшин, понимающий, что без специального образования дальше ему уже не продвинуться, уезжает в Москву поступать в Институт инженеров Красного воздушного флота. Через год институт переформировывают в знаменитую Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского. А еще через четыре года Ильюшин оканчивает полный курс инженерного факультета академии и получает назначение на должность председателя самолетной секции Научно-технического комитета ВВС — структуры, отвечавшей за подготовку требований к новым советским самолетам.
Ил-22. Фото: avsimrus.com
Проработав в комитете почти пять лет, Ильюшин в 1931 году добивается перевода к ЦАГИ: он уже не может представить свое будущее без разработки новых самолетов. Еще через два года Сергей Ильюшин становится начальником КБ московского авиазавода № 39 имени Менжинского, а в 1935 году — главным конструктором созданного на его базе Опытного конструкторского бюро завода. Это ОКБ весь мир теперь знает под именем Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина — одного из самых легендарных отечественных авиаразработчиков и производителей самолетов.
Творения, прославившие творца
Дальнейшая биография Сергея Ильюшина лучше всего иллюстрируется биографиями самолетов, созданных в ОКБ под его руководством.
Ил-24, разработанный на базе Ил-18. Фото: wikipedia.org
1935 год. В небо поднялся первый серийный дальний бомбардировщик ОКБ Ильюшина — ДБ-3, который впоследствии был серьезно модернизирован и получил индекс Ил-4. Самолет был революционным для своего времени: впервые в отечественной школе авиастроения конструкторы добились совмещения в одном бомбардировщике высокой скорости и большой дальности полета. На модификациях этого самолета в предвоенные годы совершены три рекордных дальних перелета, в двух из которых участвовал легендарный пилот-испытатель Владимир Коккинаки. На этих самолетах в модификации ДБ-3Т и Ил-4Т, то есть флотский самолет-торпедоносец, в ночь на 8 августа 1941 года советские летчики впервые совершили налет на Берлин.
1940 год. Первый полет совершает одноместный бронированный штурмовик Ил-2 — прообраз будущей легенды и самого массового боевого самолета в истории авиации. Работа над этой машиной началась в 1938 году, причем одним из инициаторов был сам Сергей Ильюшин, занимавший в тот момент пост начальника 1-го Главного управления Наркомата оборонной промышленности. Он так сформулировал свое предложение в письме, отправленном в Кремль 27 января 1938 года: «…Сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика или, иначе говоря — летающего танка, у которого все жизненные части забронированы… Задача создания бронированного штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело». Задача и правда оказалась исключительно трудной: за два года удалось создать и поставить на конвейер только одноместный вариант, и лишь с появлением более мощных моторов ОКБ смогло вернуться к идее двухместного. Но именно этот самолет стал одним из символов нашей Победы.
Ил-38. Фото: planetavvs.ru
1945 год. В свой первый полет отправился первый «мирный» самолет ОКБ Ильюшина — Ил-12. Работы над ним начались в самый разгар войны, в 1943 году: конструкторы придерживались точки зрения, что сразу после Победы в СССР возникнет большой спрос на пассажирские самолеты, а парк имеющихся в распоряжении гражданского воздушного флота американских DC-3 и их лицензионного варианта Ли-2 сильно изношен.
1948 год. В первый раз отрывается от земли реактивный фронтовой бомбардировщик Ил-28 — самолет, который стал абсолютным лидером среди реактивных бомбардировщиков по числу выпущенных экземпляров. В середине 1950-х, пока советским партийным и военным руководством не овладела идея полного перехода на ракетное вооружение, был основой фронтовой ударной авиации СССР и его союзников. Мог нести тактическое ядерное оружие. Этот самолет прославился своей удивительной надежностью и неприхотливостью в обслуживании, чем заслужил искренне уважение всех летчиков, которым довелось летать на нем.
1950 год. Состоялся первый полет пассажирского лайнера Ил-14, пришедшего на смену Ил-12. Вместе со своим предшественником этот лайнер совершил настоящую революцию в советской пассажирской авиации, превратив ее из малодоступного способа передвижения в массовый.
ИЛ-86. Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС
1957 год. В воздух впервые поднимается будущая легенда советской гражданской авиации — среднемагистральный лайнер Ил-18. Конструкция и летные характеристики самолета оказались настолько хороши, что он не только стал первым отечественным авиалайнером, который охотно покупали за границей, но и основой для множества военных и служебных модификаций. В частности, на базе Ил-18 строились самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20, воздушный командный пункт Ил-22, противолодочный самолет Ил-38 (до сих пор стоящий на вооружении российского ВМФ), самолет ледовой разведки Ил-24.
1963 год. Свой первый полет совершает последний самолет, от начала и до конца созданный под непосредственным руководством Сергея Владимировича Ильюшина, — Ил-62. Эта машина стала первым реактивным гражданским самолетом, разработанным в ильюшинском КБ — и первым советским реактивным межконтинентальным лайнером. Самолет получился настолько удачным, что не только стал зарубежной визитной карточкой СССР и его авиакомпании — «Аэрофлота», но и базовой машиной правительственного авиаотряда. Причем в этом качестве самолет продолжает летать и сегодня — в специальном летном отряде «Россия», а также в отечественных ВВС (всего в России по-прежнему эксплуатируется шесть самолетов этого типа). Кроме того, Ил-62 по-прежнему обслуживают первых лиц таких стран, как Украина, Судан и Гамбия (по одному самолету), а кроме того, служат «бортом номер один» и «бортом номер два» в КНДР. Там же еще два «шестьдесят вторых» летают под флагом национального авиаперевозчика Air Coryo.
Ил-96. Фото: Роман Вуколов / ТАСС
Крылатое бессмертие
Летом 1970 года Сергей Владимирович Ильюшин, которому исполнилось 76 лет, окончательно отошел от дел. Его с почетом проводили на пенсию, но при этом он сохранил за собой пост члена Научно-технического совета и консультанта ОКБ. А еще через семь лет знаменитого авиаконструктора не стало. Он успел увидеть, как поднимается в небо задуманный еще с его участием транспортник Ил-76 и понаблюдать за созданием межконтинентального лайнера Ил-86, который пришел на смену Ил-62. А вот наследник «восемьдесят шестого» — аэробус Ил-96 — поднялся в небо уже после смерти создателя легендарного ОКБ.
Сегодня один из крупнейших отечественных авиастроительных концернов носит имя своего основателя — Сергея Ильюшина: имя человека, который был и остается одним из символов российской авиации, одним из основателей отечественной школы авиастроения и создателем уникальных, легендарных самолетов-рекордсменов, названия которых знает и помнит весь мир.
31 мая 1935 года был принято постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»
Позабыт и заброшен с молодых юных лет
От суровых лет Первой мировой и Гражданской войн, кроме разрухи, осталось ещё одно страшное наследие – детская беспризорность. Масса детей осталась без опеки, мальчишки и девчонки сотнями тысяч бродили по истерзанной и голодной стране. На точную статистику того времени рассчитывать сложно, но всё-таки имеются данные, что в 1921 году таких ребят было 4,5 миллиона, а по другим данным – в 1922 году их было и вовсе 7 миллионов.
Источник: https://stalist.livejournal.com
Молодое Советское государство было крайне озабочено этой проблемой и бросило значительные силы на её решение. Борьба с беспризорностью становится государственной задачей. Сначала вступает в силу декрет о создании Совета по защите детей. Его возглавляет нарком просвещения Анатолий Луначарский. В 1921 году создаётся «Деткомиссия ВЦИК» во главе с Феликсом Дзержинским. Вопрос стоял на контроле и у В.И. Ленина. К решению вопроса были подключены и другие организации. Не осталась равнодушной вся страна. Особое место в этой работе приняли профсоюзы, комсомол, партийные организации. Всех беспризорников брали на учёт в милиции, ГПУ и в уголовном розыске. В органах народного образования создавались специальные службы, занимающиеся этими вопросами.
Все на борьбу с беспризорностью!
Повсеместно начали организовываться детские воспитательные учреждения интернатного типа – детские дома, трудовые коммуны, школы-колонии, школы-коммуны, детские городки. В 1919 году опекой было охвачено 125 тысяч детей, в 1921-1922 годах – 540 тысяч. В 1921 году было создано 200 приёмников-распределителей, которые пропускали через себя ежедневно от 50 до 100 детей. С 1922 года стали вводиться квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков.
Источник: http://back-in-ussr.com
Активно внедрялись такие формы работы с беспризорниками, как патронат, усыновление, опека и попечительство. В 1923 году только в Москве на эту работу было брошено 15 тысяч педагогических работников. В 1924 году проходит 1-я московская конференция по борьбе с беспризорностью. В это время беспризорностью серьёзно начинает заниматься ЧК.
Созданные общества «Друзья детей» организовывали ночлежки, приюты, рабочие мастерские, летние лагеря отдыха и детские площадки для беспризорников. Сил у молодого государства не хватало, но с каждым годом росло количество учреждений, которые занимались реабилитацией детей. В 1925 году имелось 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков.
Источник: https://stalist.livejournal.com
Борьба с беспризорничеством и защита детей в 1926 году были закреплены в важных государственных документах. И на Пленуме ВЦИК в 1927 году отмечалось, что принятые меры стали давать результаты. Были выделены дополнительные ассигнования и принят трёхлетний план по борьбе с беспризорностью.
Искоренили полностью
Принято считать, что ликвидация беспризорности относится к середине 1930-х годов. Упомянутый выше документ 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» отмечал, что ликвидирована массовая беспризорность, но небольшое число беспризорников всё ещё остаётся, и потому прекращать работать в данном направлении рано. Было предложено эту работу продолжить. С ликвидацией массовой беспризорности страна справилась за 15 лет.
Источник: http://back-in-ussr.com
За эти годы было сделано очень много, но трудностей было ещё больше. Этот процесс художественными средствами был наглядно показан в ставших классическими для советского кинематографа фильмах, прежде всего это «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка (1931) и «Республика ШКИД» режиссёра Геннадия Полоки (1966). Фильм «Путёвка в жизнь» был создан по предложению известного педагога Антона Макаренко, который сам стал развивать собственную методику перевоспитания, выбрав для этой цели трудовую колонию для несовершеннолетних. Именно он создал систему, основанную на разделении детей на группы и самостоятельном обустройстве их быта. Под его руководством подростки изготавливали фотоаппараты «ФЭД». ЮНЕСКО отнесла Макаренко к четырём педагогам, определившим способ педагогического мышления в ХХ веке.
Сироты Великой Отечественной
Новым испытанием для всей страны стала Великая Отечественная война. Имеются разные данные по количеству детей-сирот. Чаще всего пишут, что после войны их было более 600 тысяч человек.
Государство уже имело богатый опыт и по борьбе с беспризорничеством, и в умении справляться с проблемами детского сиротства. К концу 1945 года для детей погибших фронтовиков было открыто 120 детских домов и в них воспитывалось 17 тысяч детей. Были распространены детские дома при колхозах, промышленных предприятиях за счёт профсоюзов и комсомольских организаций, при милиции. Широко практиковалась передача детей-сирот в семьи. С 1941 по 1945 год было взято под опеку и патронат 270 тысяч детей-сирот.
Источник: https://ekabu.ru
В 1943 году руководство страны приняло решение об организации на освобождённых территориях суворовских, нахимовских и специальных ремесленных училищ с повышенными нормами содержания детей и обучение их лучшим военным и гражданским профессиям. Каждому ребёнку гарантировалось там семилетнее образование.
Детей, оставшихся без родителей, собирали комендантские патрули и отправляли в военкоматы. Дальше они уже щеголяли в военной или ремесленной форме. Деньги на ребят у государства находились. Дети-сироты в самые суровые дни войны не остались на улице, не были брошены на произвол судьбы.
Обложка: https://pikabu.ru
14 ноября 2020, 10:00
Биография Лазаря Кагановича окутана вымыслами и легендами. Мощная, колоритная и противоречивая фигура как в своём созидательном, так и в разрушительном потенциалах. За плечами «Железного наркома» колоссальные проекты в области тяжёлой индустрии, коренная реконструкция и развитие железнодорожного транспорта, строительство Московского метрополитена. Лазарь Каганович, несомненно, обладал большими организаторскими способностями, хорошо владел ораторским искусством, был неутомимым в работе и мог весьма умело поддерживать и развивать различные трудовые почины, увлекавшие массы на самоотверженный труд.

Лазарь
Моисеевич Каганович родился в небогатой еврейской семье 10 (22) ноября 1893
года в небольшой деревне Кабаны (позже – село Диброва в Киевской области Украины,
которое было окончательно упразднено в 1999 году как вошедшее в зону
обязательного отселения Чернобыльской АЭС). Образованием Лазаря Кагановича были
несколько классов народной школы, после чего он отправился в Киев на заработки.
Лишённая многих прав, которыми пользовались в России не только русские, но и
«инородцы», еврейская молодежь была благодатной средой для революционной
агитации. В 1911 году по примеру старшего брата Лазарь Каганович вступил в
РСДРП. С этого момента и началась его партийная карьера. Во все годы до
революции Каганович занимался пропагандой, созданием кружков и приближением
революционных событий, совмещая эту деятельность с трудом на заводах и
фабриках. С началом Гражданской войны партии пригодились агитаторский и
организаторский таланты Лазаря Кагановича, которого отправляли в разные регионы
страны с различными поручениями. Во время Первой мировой войны был арестован и
выслан на родину, но затем нелегально вернулся в Киев, после чего под чужими фамилиями
работал на обувных фабриках в разных городах Украины, каждый раз организуя
нелегальные союзы сапожников, и в конце концов перебрался в Донбасс, в город
Юзовка (сейчас Донецк), где, руководил большевистской организацией на обувной
фабрики.
В период Великой Октябрьской социалистической революции в Петрограде Лазарь Каганович был руководителем и активным участником Октябрьского восстания и захвата власти в Гомеле. Весной 1918 года был назначен комиссаром организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации Красной Армии и направлен в Нижний Новгород, а в сентябре 1919 года – на Южный фронт для руководства воронежским участком. В сентябре 1920 года был командирован Среднюю Азию, где занял несколько должностей, в том числе являлся членом Туркестанского бюро РКП(б) и председателем Ташкентского горсовета.

В этот период Лазарь Каганович познакомился с Иосифом Сталиным, который начал свое восхождение по партийной лестнице, и в 1921 году был переведен в Москву на должность инструктора ВЦСПС, инструктора и секретаря Московского, а затем Центрального комитета союза кожевенников. С 1922 по 1923 годы Каганович являлся заведующим организационно-инструкторским отделом ЦК РКП(б), который позже был трансформирован в организационно-распределительный отдел ЦК РКП(б). Его первые публикации были посвящены теоретическим вопросам идеологии. В 1924–1925 годах являлся секретарем ЦК РКП(б). В развернувшейся после смерти Ленина в 1924 году острой внутрипартийной борьбе Сталину было крайне важно обеспечить себе поддержку Украины – самой крупной после РСФСР союзной республики. По рекомендации Сталина именно Лазарь Каганович был избран в 1925 году Генеральным секретарём ЦК КП(б) Украины. Этот пост он занимал в период с 1925 по 1928 годы, проделав немалую работу по восстановлению и развитию промышленности Украины.

В 1930 году
начался новый восход Лазаря Кагановича. Он стал полноправным членом Политбюро
ЦК ВКП (б), а также партийным начальником Москвы и Московской области. Будучи
близким соратником Сталина, он был одним из наиболее влиятельных руководителей
партии в стране, постоянно вмешивался во всевозможные сферы государственной
жизни и выступал в роли руководителя или организатора самых разных мероприятий
и кампаний правительства. Под его руководством была проведена масштабная
реконструкция столицы с расширением улиц, асфальтированием дорог и разрушением
храмов, соборов и старинных зданий. Лазарь Каганович хотел построить «идеальный
город будущего» и поэтому инициировал разрушение многих старых районов города,
церквей и зданий, в том числе и снос Храма Христа Спасителя в 1931 году. В этот
период, когда Сталин уезжал в отпуск к Чёрному морю, именно Лазарь Каганович
оставался в Москве в качестве временного главы партийного руководства.
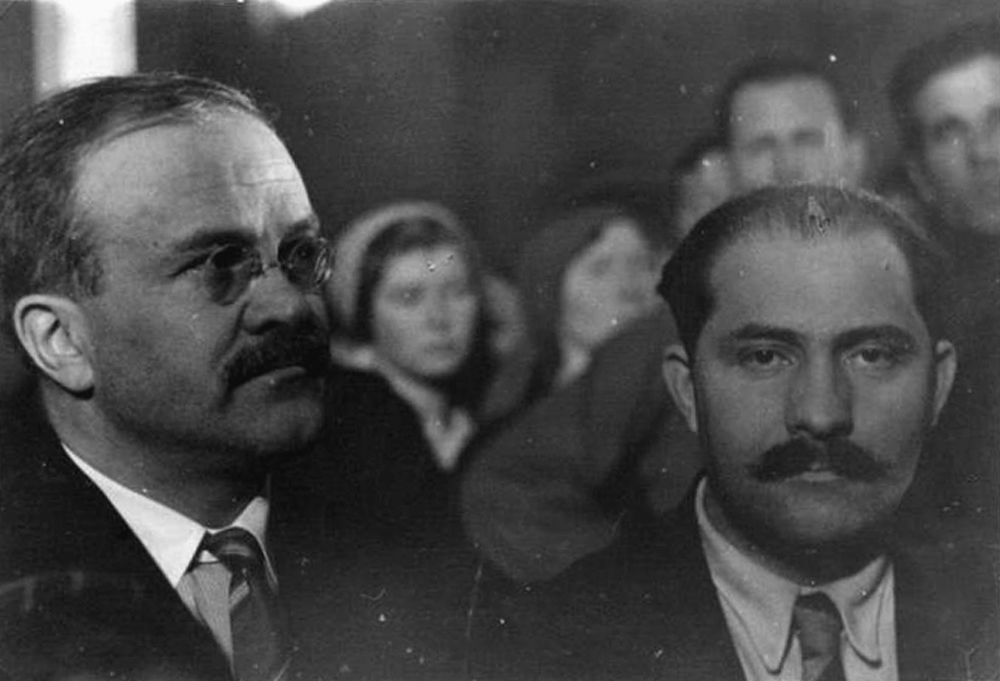
28 февраля 1935 года Сталин назначает Лазаря Кагановича на должность наркома путей сообщения, сохраняя за ним пост секретаря ЦК. Назначение видных руководителей партии в хозяйственные наркоматы было в обычае ещё со времен Гражданской войны. Железнодорожный транспорт в огромной стране был не просто важен – это было «узкое место» народного хозяйства, сдерживавшее экономический рост. В этот период на железнодорожном транспорте была повышенная аварийность и халатность. Назначение Лазаря Кагановича на такой участок работы являлось вынужденной мерой. Именно в этот период появилась крылатая фраза Кагановича — «У каждой аварии есть имя, фамилия и должность».

Лазарь Каганович занимался технической модернизацией и реорганизацией железнодорожного транспорта страны, при этом ему удалось добиться определенных успехов в этом деле за счет ужесточения дисциплины, партийных чисток и непреклонной твердости. Особое внимание в этот период Лазарь Каганович уделял контролю за строительством Московского метрополитена, инициатором и одним из руководителей которого являлся с 1932 года. Благодаря его руководству первая линия метро была запущена 15 мая 1935 года. Московский метрополитен носил его имя в период с 1935 по 1955 годы. Кстати, первый советский троллейбус имел марку «ЛК» в честь Лазаря Кагановича, который запустил в Москве первые троллейбусные линии. Также Кагановичу принадлежала идея создания детской железной дороги в подмосковном посёлке Кратово.

Осенью 1941 года, когда враг интенсивно рвался к Москве, Лазарь Каганович подписал три распоряжения, согласно которым готовился подрыв метрополитена, если врагу будет суждено атаковать Москву с ходу. 15–16 октября 1941 года Москву охватила паника. Было принято решение эвакуировать из столицы все министерства, посольства, культурные объекты, многие промышленные предприятия и заводы. Из парков на линии не вышли трамваи, не работали многие магазины и булочные, на сутки прекратил работу метрополитен. Началось разграбление магазинов. Силами войск НКВД в столице восстановили правопорядок. А 25 марта 1942 года ГКО принял постановление «О НКПС», в котором говорилось, что нарком путей сообщения Лазарь Каганович «не сумел справиться с работой в условиях военного времени», и его освободили от поста наркома. Если не считать коротких (годичных и полуторагодовых) перерывов, Лазарь Каганович фактически оставался во главе НКПС до 1944 года. Его заслугой являются меры по эвакуации промышленных предприятий и населения в восточные районы страны путём обеспечения бесперебойных железнодорожных перевозок.

После войны, в 1946 году, он сменил Никиту Хрущева на посту первого секретаря компартии Украины и занимал эту должность до 1947 года, занимаясь восстановлением разрушенного хозяйства республики. После смерти Сталина в 1953 году Каганович остался членом Президиума ЦК КПСС и стал первым заместителем председателя Совета Министров СССР. В середине 1950-х годов Лазарь Каганович занимался разработкой нового пенсионного законодательства, в результате принятия которого пенсию стали получать все слои населения. 25 ноября 1955 года Президиум ЦК КПСС принимает решение о присвоении Московскому метрополитену имени В.И. Ленина «по предложению товарища Л.М. Кагановича». В том же постановлении отмечались заслуги Кагановича, в связи с чем станция «Охотный ряд» был переименована в станцию «Имени Кагановича» и носила это его имя два года.

После попытки смещения Хрущева в 1957 году, от власти были отстранены остальные люди из окружения Сталина, осужденные пленумом ЦК КПСС как «антипартийная группа». После этого Лазарь Каганович короткое время работал директором завода по производству асбеста в городе Асбест, а в 1958 году был ответственным за жилищное строительство в Калинине. После XXII съезда КПСС, состоявшегося в 1961 году он был исключен из партии. Однако его уход с политической сцены демонстрирует определенные изменения, которые произошли в послевоенную эпоху. Если при жизни Иосифа Сталина исключенных членов Политбюро ЦК ВКП(б)/КПСС, как правило, арестовывали и расстреливали, то Лазарь Каганович вышел на пенсию и продолжал жить в Москве как персональный пенсионер.

Лазарь Каганович умер 25 июля 1991 года, когда уже наступил закат СССР и оставались считанные недели жизни КПСС. Ему было 97 лет. И всю свою жизнь он сохранял твердое убеждение в том, что политика Сталина была правильной, и всячески защищал её в своих мемуарах.
Все изображения взяты из открытых источников.