Для Вашего удобства и экономии времени, у Вас есть возможность пройти краткий инструктаж и узнать основные принципы управления Boeing 737 NG до запланированного полета в нашем авиатренажере
Краткая инструкция по управлению
самолетом Boeing 737-800
Этот документ поможет Вам освоиться в кабине самолета Boeing 737-800, понять что нужно делать и какие параметры выдерживать на взлете, в полете и на посадке.
Внимание! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА САМОЛЕТЕ!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА.
Основные органы управления самолетом
- Основной орган управления — это штурвал. С помощью него мы можем управлять самолётом по крену и тангажу. Для того чтобы поднимать нос самолёта, необходимо тянуть штурвал на себя. Такое движение самолёта называется кабрированием. Если штурвал давить от себя, то нос будет опускаться. Это называется пикированием. При вращении штурвала влево или вправо самолёт вращается вокруг своей продольной оси в ту же сторону, т.е. увеличивает или уменьшает крен.
-
Для управления
по рысканью (вращение самолёта вокруг
вертикальной оси) используются педали.
При нажатии на правую педаль нос самолёта
тоже будет поворачивать вправо. В
основном педали используются на взлёте
и на посадке по разбеге и пробеге по
взлетно-посадочной полосе. -
Третий важный
орган управления — рычаги управления
двигателями, или сокращённо РУДы. Они
регулируют тягу двигателей, и,
соответственно, скорость нашего полета.
Можно управлять тягой вручную, но чаще
всего в полете применяется автомат
тяги, он управляет рычагами автоматически
и поддерживает заданную скорость.
Остальные
органы управления, термины и сокращения
В данной
инструкции вы будет встречать различные
аббревиатуры, термины, сокращения,
незнакомые органы управления, поэтому
сначала определимся где они находятся
и что обозначают.
Подробное описание приборов
Основной прибор — Primary Flight Display (PFD)
Общий вид и элементы
На него выводится первичная информация о параметрах нашего полета.
- FMA — Flight Mode Annunciator. Указывает режимы работы автомата тяги и системы траекторного управления самолётом.
- Блок указателя скорости.
- Авиагоризонт.
- Указатель работы автопилота.
- Блок указателя высоты.
- Указатель вертикальной скорости.
- Указатель курса и путевого угла.
Рассмотрим PFD подробнее.
FMA
- Режим работы автомат тяги.
- Режим ведения по крену.
- Готовый к активации режим работы по крену.
- Режим ведения по тангажу.
- Рамка смены режима. Появляется на 10 секунд после смены режима автомата тяги, крена, тангажа, автопилота или системы CWS.
- Индикация активного режима CWS по крену.
- Индикация работы автоматики.
- пусто — полностью ручное управление
- FD — работают директорные стрелки, необходимо следовать их указаниям
- CMD — работает автопилот
- Индикация активного режима CWS по тангажу.
- Готовый к активации режим работы по тангажу.
Лента скорости
Скорость на данном самолете измеряется в узлах. 1 узел = 1 морская миля в час = 1.852 км/ч
- Заданная скорость.
- Тренд изменения
скорости. Конец стрелки показывает
какая у нас будет скорость через 10
секунд, если ускорение самолета не
поменяется. - Текущая приборная скорость.
- Максимально разрешенная скорость (нижняя граница
красно-черной зоны), определяется как
минимальная из:- максимальной
разрешенной скорости или числа Маха; - ограничения по выпущенному шасси;
- ограничения по углу выпуска закрылков.
- максимальной
- Нижний край желтой зоны указывает скорость,
обеспечивающую маневрирование с
перегрузкой до 1.3g (т.е. крен до 40 градусов)
без опасности возникновения тряски.
Эта индикация возникает на больших
высотах и при относительно большой
массе самолета. - Маркер заданной скорости.
- Текущее число
Маха (соотношение скорости самолета к
скорости звука). При скорости меньше
чем 0.4М в этом месте указывается путевая
скорость самолета в узлах — GS 150.
Лента скорости в режиме взлета или посадки

- Показывается
в определенных режимах при отказе
автоматики вычисления и индикации
определенных скоростей. В нормальном
полете не используется. - Рекомендованные
скорости полета.
Показывает рекомендуемую
скорость полета для различных положений
закрылков:- начинает
показывать скорости после ввода массы
самолета в CDU - при взлете
не показывает скорость для взлетного
положения закрылков, так как будет
указываться маркер скорости V2+15 (за
исключением взлета с закрылками 1) - рекомендованные
скорости исчезают с экрана, когда рычаг
управления закрылками передвинут в
положение 30 или 40 (кроме скорости для
положения UP) - скорость
для положения UP исчезает примерно выше
20000 футов.
- начинает
- V2+15. Маркер
появляется на взлете. Данная скорость
важна для начала уборки механизации
после взлета. Он исчезает:- после начала
уборки механизации, или - после ввода
Vref в CDU (если решили вернуться в аэропорт
сразу после взлета).
- после начала
- Маркеры
скорости принятия решения (V1) и скорости
начала подъема передней опоры (Vr).
Автоматически исчезают после отрыва. - Верхний край
желтой зоны указывает скорость,
обеспечивающую маневрирование с
перегрузкой до 1.3g (т.е. крен до 40 градусов)
без опасности возникновения сваливания.
Появляется после начала уборки
механизации или после ввода Vref в CDU. - Минимальная
скорость (верхняя граница красно-черной
зоны). На этой скорости произойдет
срабатывание механизма тряски штурвала. - Нижний край
желтой зоны указывает ограничение
скорости для следующего положения
закрылков из расчета, что закрылки
выпускаем по схеме UP-1-5-15-30-40. Эта зона
исчезает, когда закрылки выпущены в
положение выбранное для посадки на
странице APPROACH в CDU, выпущены в положение
40 или мы начали уборку механизации. - Vref+20. Появляется
при выборе Vref в CDU. - Vref. Показывает
выбранную в CDU Vref. - Используется
при отказе автоматики вычисления и
индикации определенных скоростей. В
нормальном полете не используется. - 80 узлов.
Автоматически показывается на ленте
скорости при предполетной подготовке,
исчезает после начала уборки механизации
или после ввода Vref в CDU. Используется
для напоминания о callout “80 knots” на
разбеге.
Авиагоризонт
- Шкала крена.
Белый перевернутый треугольник в центре
обозначает отсутствие крена. В сторону
от него находятся риски обозначающие
крен 10, 20, 30, 45 и 60 градусов. Само значение
крена показано указателем крена (номер
5). На примере выше самолет летит с правым
креном 20 градусов. - Указатель
ограничения тангажа. Показывает, что
выше этого ограничителя возникнет
опасность сваливания самолета и будет
включен механизм тряски штурвала.
Появляется на дисплее, когда механизация
крыла не убрана. - Директорные
стрелки. Показывают желаемое положение
самолета для полета по заданной
траектории. Символ самолета необходимо
совмещать с перекрестием директорных
стрелок. На примере выше требуется
поднять нос вверх и увеличить правый
крен, т.е. потянуть штурвал на себя и
повернуть его немного вправо. - Линия горизонта
и шкала тангажа. Короткие, средние и
длинные риски, параллельные линии
горизонта показывают угол тангажа. Шаг
между рисками — 2.5 градуса, каждые 10
градусов подписаны. На примере выше
наш тангаж примерно 3.5 градуса. - Указатель
крена. Закрашивается в желтый цвет при
превышении крена 35 градусов. Для
приведения самолета в горизонтальный
полет необходимо поворачивать штурвал
в сторону этого указателя крена. - Индикатор
скольжения. Уходит немного в сторону
в случае если самолет летит с боковым
скольжением. В нормальном полете такого
практически нет. А в случае отказа
двигателя будет необходимо нажимать
на ту педаль,в какую сторону ушел
индикатор. Нужно будет держать его в
центре с помощью педалей. - Символ
самолета. Черный квадрат символизирует
нос самолета, по бокам два крыла. С
помощью этого символа легко считывать
тангаж самолета. - Вектор
траектории самолета. В отличии от
символа самолета, который показывает
именно пространственное положение
самолета, данный символ показывает
куда летит самолет. Т.е. чаще всего
самолет летит немного ниже, чем поднят
нос, а боковой ветер создаст боковой
снос.
Авиагоризонт в режиме захода на посадку

- Позывной
радиомаяка курсо-глиссадной системы,
выбранный посадочный курс.
Дистанция
до маяка.
Тип принимаемого сигнала. - Шкала курсового
маяка. Пурпурный ромб показывает
положение луча курсового маяка
относительно самолета. На примере выше
наш самолет находится правее линии
захода на посадку. - Символ
возникает при пролете приводных
радиомаяков взлетно-посадочной полосы. - Шкала
глиссадного маяка. Пурпурный ромб
показывает положение луча глиссадного
маяка относительно самолета. На примере
выше наш самолет находится строго на
глиссаде. - Символ
взлетно-посадочной полосы. Появляется
когда есть устойчивый прием сигнала
курсового маяка и высота по радиовысотомеру
менее 2500 футов.
На высоте 200 футов начинает
подниматься к символу самолета. В момент
касания символ самолета как-будто
приземляется на эту полосу.
Радиовысотомер
Показывает
истинную высоту, т.е. высоту от самолета
до поверхности под ним (до земли, до
зданий). Показывает только в том случае,
если значение этой высоты меньше чем
2500 футов.
Лента
высоты
- Маркер
заданной высоты. - Текущая
высота полета в метрах (если включен
соответствующий режим). - Текущая
высота полета в футах (1 фут = 0.3048 м).
Рамка
вокруг значения высоты становится
толще при подходе к заданной высоте.
При
отклонении от заданной высоты более
чем на 200 футов рамка начинает моргать
желтым цветом. - Заданная
высота полета в метрах (если включен
соответствующий режим). - Заданная
высота полета в футах. При подходе к
ней вокруг появляется белая рамка.
Вариометр
Прибор показывает
нам вертикальную скорость, т.е. скорость
изменения высоты. Измеряется в футах в
минуту.
- Стрелка
вариометра. Показывает вертикальную
скорость на шкале. Если стрелка отклонена
вверх, то мы набираем высоту. Если вниз
— снижаемся. - Маркер
заданной вертикальной скорости,
появляется при включенном режиме V/S. - Цифровое
значение нашей вертикальной скорости.
Появляется снизу при снижении и сверху
в случае набора высоты. Показывает
значения только больше 400 футов в минуту. - При срабатывании
системы TCAS (предупреждающей возможны
столкновения в воздухе) возникает
индикация, подсказывающая куда не надо
лететь. На данном примере мы не должны
набирать высоту.
Компас
- Указатель
нашего текущего курса. - Указатель
путевого угла.
В чем отличие курса и
путевого угла? Курс — это угол между
продольной осью самолёта и направлением
на магнитный северный полюс, т.е. то
куда смотрит нос самолёта, а путевой
угол — это угол между траекторией полета
самолёта и направлением на магнитный
северный полюс, т.е. то, куда фактически
летит самолёт. Разница возникает чаще
всего из-за наличия бокового ветра. - Цифровое
значение заданного курса. - Маркер
заданного курса. - Указатель
системы отсчета курса — магнитный или
истинный. Истинный включается в крайних
северных широтах.
Взлет
Перед
взлетом нужно убедиться, что самолет
находится во взлетной конфигурации,
т.е. выпущены закрылки во взлетное
положение и значение триммера стабилизатора
соответствует нужному. Также необходимо
убедиться что скорость V2 установлена
на MCP. Компания Boeing рекомендует
использование автомата тяги и директорных
стрелок на взлете.
Далее
рассмотрим процедуру взлета с разделением
пилотов по функциям. Pilot flying —
пилотирующий пилот. Его непосредственная
задача — управление самолетом и
выдерживание заданной траектории
полета. Pilot monitoring — наблюдающий пилот.
Его задача — контроль параметров полета,
управление конфигурацией самолета
(механизация, шасси) по командам
пилотирующего пилота и управление
системами самолета.
Процедура перед взлетом
| Командир | Второй пилот |
|---|---|
|
|
Уведомить кабинный экипаж о взлете |
| Команда “BEFORE TAKEOFF CHECKLIST” |
Выполнить Before takeoff checklist, т.е. прочитать карту контрольной проверки перед взлетом. |
Процедура взлета
|
Пилотирующий |
Наблюдающий |
|---|---|
|
Перед выруливанием на ВПП убедиться, |
|
|
При выруливании на ВПП: |
|
|
Убедиться, что тормоза отпущены |
|
|
Убедиться, что курс самолета на приборах |
|
|
После получения разрешения на взлет: |
|
|
Команда “CHECK ENGINES STABILZED” |
Наблюдать за приборами Доклад “ENGINES STABILIZED” |
|
Нажать кнопку TO/GA (одну любую один раз) |
|

Убедиться, что рычаги движутся вперед Команда “CHECK TAKEOFF THRUST” |
|
|
Следить за параметрами двигателя и Установить взлетный режим до достижения В случае с сильным встречным ветром |
|
|
Убедиться, что правильный взлетный |
|
|
Ответ “CHECKED” |
Если параметры в норме, доклад “TAKEOFF THRUST SET, NORMAL” |
|
После установки взлетного режима рука |
|
|
Следить за скоростью. Слегка придавливать штурвал “от себя” |
Следить за параметрами двигателя и скоростью самолета. Докладывать о любых отклонениях от нормы. |
|
Убедиться, что своем указателе скорости тоже 80 узлов, ответ “CHECKED” |
При достижении 80 узлов доклад “EIGHTY KNOTS” |
|
Убедиться, что достигли V1 |
Примерно за 5 узлов до V1 доклад “V1” |
|
Действие командира:
Одновременно скомандовать “GO” |
|
|
Потянуть штурвал на себя, начать плавно |
По достижении скорости подъема передней опоры (VR) доклад “ROTATE” |
|
После взлета использовать авигоризонт |
Следить за скоростью и вертикальной скоростью. |
|
Создать устойчивый набор высоты |
|
|
Убедиться в устойчивом наборе высоты по стрелке вариометра и по барометрическому высотомеру. Доклад “POSITIVE RATE” |
|
|
Убедиться в устойчивом наборе высоты по стрелке вариометра и по барометрическому высотомеру и скомандовать “GEAR UP” |
|
|
Перевести рычаг управления шасси в положение UP |
|
|
Изменяя тангаж самолета удерживать скорость в пределах V2+15 — V2+25 (без отказа двигателя) или V2 — V2+20 (с отказом одного двигателя). |
|
|
Выше 400 фт по РВ скомандовать включение необходимого режима работы системы ведения самолета по крену или убедиться что он уже выбран |
Выбрать нужный режим (LNAV или HDG SEL) |
|
На высоте уменьшения тяги (Thrust reduction altitude): Убедиться в ее автоматическом уменьшении, или скомандовать “N1” |
По команде нажать кнопку N1 на MCP |
|
Убедиться, что установлен режим для набора высоты |
|
|
По необходимости подключить автопилот, доклад “AUTOPILOT ON, MY MCP” |
Убедиться в правильной индикации на FMA, ответ “CHECKED” |
|
На высоте начала разгона дать команду на установку заданной скорости на значение Flaps UP speed: “SET FLAPS UP SPEED” |
Установить на МСР Flaps UP speed |
|
Убедиться в росте скорости. Убирать механизацию согласно таблице командуя “FLAPS __” |
Убедиться в росте скорости и в том, что скорость не ниже минимально допустимой для уборки механизации. Переместить рычаг управления закрылками в командуемое положение. Следить за уборкой закрылков и предкрылков. |
|
|
После полной уборки механизации:
|
|
Команда “AFTER TAKEOFF CHECKLIST” |
Выполнить After takeoff |
Схема
процедуры взлета
Если не разделять
распределение обязанностей, то взлет
можно изобразить в виде схемы:
Таблица
уборки механизации
|
Взлетное положение механизации |
Метка на ленте скорости |
Скорость для уборки в следующее |
Выбрать положение механизации |
|
25 |
V2+15 “15” “5” |
V2+15 Vref40+20 Vref40+30 |
15 5 1 |
|
15 или 10 |
V2+15 “5” “1” |
V2+15 Vref40+30 Vref40+50 |
5 1 UP |
|
5 |
V2+15 “1” |
V2+15 Vref40+50 |
1 UP |
|
1 |
“1” |
Vref40+50 |
UP |
Полет
В полете нужно удерживать задаваемые
параметры (скорость, курс и высота) через
изменение тяги и пространственного
положения самолета. Также нужно
использовать триммер стабилизатора
для снятия нагрузок со штурвала.
Рекомендация по триммированию самолета
Кнопка триммера
находится сверху внешнего рога штурвала.
Со стороны КВС это левая половина
штурвала.

- Используя
штурвал и РУДы установить устойчивый
полет самолета, например набор высоты
без крена или горизонтальный полет с
неизменной скоростью. - Если отпустить
штурвал и самолет продолжит полет по
этой траектории, значит он уже
стриммирован. Если отпустить штурвал,
а самолет начнет поднимать или опускать
нос, то необходимо его оттриммировать. - Удерживая
самолет на заданной траектории штурвалом
определяем направление прилагаемого
к штурвалу усилия — тянущее или давящее. - Если штурвал
приходится давить, то кнопку триммера
нужно будет тоже давить от себя. Если
тянет — то на себя. - Не снимая
усилие со штурвала нажимаем кнопку
триммера в нужном направлении на 0.5-2
сек (в зависимости от величины прилагаемого
усилия). Убеждаемся, что стабилизатор
переставляется, т.е. крутятся диски
триммера по бокам блока РУД. - Наблюдаем
за реакцией самолета. Продолжаем
штурвалом удерживать его на траектории.
Усилие на штурвале, требуемое для
удержания самолета должно уменьшиться. - Повторяем
пункты 3-6 до состояния стриммированного
самолета.
Посадка
Заход на
посадку по приборам
Рассмотрим процедуру
захода на посадку по аналогии с процедурой
взлета.
|
Пилотирующий пилот |
Наблюдающий пилот |
|
Начальное положение: — по курсу активен режим HDG SEL или LNAV — необходимый режим активирован по |
|
|
Уведомить кабинный экипаж о скорой посадке трехкратным нажатием кнопки ATTEND |
|
|
Выпускать механизацию согласно таблице Рекомендуется выпускать закрылки в |
Проверить, что выпуск механизации не |
|
Находясь на курсе для захвата курсового
|
|
|
Перевести режим захода на посадку |
|
|
Ответ “CHECKED” |
Когда маркер курсового маяка закрасится |
|
По активации режима захвата (индикация |
|
Если для захвата курсового маяка |
|
|
Установить курс ВПП в окошке HEADING на |
|
|
Когда маркер глиссадного маяка закрасится и начнет движение к центру произвести доклад “GLIDESLOPE ALIVE” |
|
|
На одну точку ниже глиссады дать
|
|
|
Примечание: если ТВГ расположение на |
|
|
Перевести рычаг выпуска шасси в положение DN Убедиться, что загорелись зеленые лампы выпущенного шасси Выпустить закрылки на 15 Установить переключатели запуска и зажигания двигателей в положение CONT (ENGINE START SWITCHES — CONT) |
|
|
Перевести рычаг интерцепторов в Убедиться, что загорелась зеленая |
|
|
При захвате глиссады (индикация G/S “FLAPS __” |
Выпустить закрылки по команде. |
|
Установить высоту ухода на второй |
|
|
Проверить установку высоты ухода на второй круг |
|
|
Команда “LANDING CHECKLIST” |
Выполнить Landing checklist |
|
Вести самолет по курсу и по глиссаде.
В особых случаях (например, сильная |
|
|
Следить за параметрами захода на посадку. На 1000 или 500 футах (в зависимости от погодных условий) произвести оценку захода. Если заход стабилизирован — доклад “STABILIZED”. Если заход не стабилизирован — доклад “UNSTABILIZED APPROACH, GO AROUND!” |
|
|
При продолжении захода продолжать следить за параметрами. При возникновении нестабилизированного захода — доклад “UNSTABILIZED APPROACH, GO AROUND!” |
|
|
За 100 футов до ВПР доклад “APPROACHING MINIMUMS” |
|
|
Перенести внимание частично с приборов |
|
На ВПР доклад “MINIMUMS” |
|
|
Если установлен контакт с наземными |
|
|
При продолжении захода: На высоте 25-30 футов начать плавно На высоте 20-25 футов начать выравнивание После касания уменьшить тянущее усилие |
После касания удостовериться в автоматическом выпуске спойлеров, доклад “SPEEDBRAKE UP”. Если не вышли — “SPEEDBRAKE NOT UP”. После появления индикации REV на экране контроля двигателей — доклад “REVERSERS NORMAL” |
|
Удерживать самолет педалями по оси |
Таблица
выпуска механизации
|
Текущее положение механизации |
Метка на ленте скорости |
Выбрать положение механизации |
Установить заданную скорость (по метке на приборе) |
|
UP |
“UP” |
1 |
“1” |
|
1 |
“1” |
5 |
“5” |
|
5 |
“5” |
15 |
“15” |
|
15 |
“15” |
30 или 40 |
(Vref30 или Vref40) + поправка на ветер |
Советский центр управления полетами времен «Востоков» и «Восходов»
Время на прочтение
8 мин
Количество просмотров 38K
Написать эту статью меня побудила вот эта фраза Филиппа Терехова из его обзора фильма «Время Первых»:
«Отдельная интересная история с Центром управления полетами, как он показан в фильме. Увы, но красивая картинка выше представляет собой копию американского ЦУПа…Внутренняя организация помещений была настолько секретной, что на фото и видео сейчас можно найти разве что имитацию для фильмов».
Замечание было верным, лично мне тоже очень хотелось узнать, как выглядел наш ЦУП времен первых пилотируемых полетов.И мне это все-таки удалось.
Конечно, ЦУП, показанный в фильме, имеет мало общего с реальным. Но можно найти и фотографии реального нашего центра управления полетами. Точнее, координационно-вычислительного центра, как он тогда назывался. Более того, уверен, что его видел и Филипп, но не понял, что это именно он.
Когда я первый раз увидел его на кадрах из фильма про «Венеру-4», я тоже не поверил, что это реальный ЦУП, приняв за декорацию. Но чем больше я изучал доступную информацию, тем яснее становилось моя ошибка.
Для начала немного сухой истории из книги ЦНИИмаша:
«Работы ЦНИИмаша по баллистическому обеспечению управления полетами пилотируемых и автоматических аппаратов начались с 1963 г. И являлись новым и, до некоторой степени, неожиданным направлением научной деятельности института. Это направление зародилось в институте с приходом нового директора Г.А. Тюлина в 1959 г. Он укрепил состав Вычислительного центра и оснастил его двумя машинами М-20. Продолжил и развил указанные направления деятельности директор Ю.А. Мозжорин, пришедший в НИИ-88 в 1961 г.
ЭВМ М-20. Снимок с сайта: Виртуальный компьютерный музей
Центр базировался на двух ЭВМ типа М-20. В КВЦ НИИ-88 были установлены два полуавтоматических устройства ввода данных для автоматического приема результатов траекторных измерений поступающих с измерительных пунктов, аналогичные устройствам КВЦ НИИ-4. Кроме этого, была заказана и разработана система коллективного отображения получаемой информации. На центральном экране размером 2 на 3 метра проектировались различные географические карты и траектория полета спутника на фоне карты, а изображение самого спутника давалось в Виде светящегося пятна. Координаты проекции траектории и положение спутника выдавались электронно-вычислительной машиной, производящей обработку результатов текущих траекторных измерений. На двух дополнительных экранах размером 1х1.5 метра, размещенных с двух сторон от основного экрана, высвечивалась статическая информация, характеризующая сопровождаемый полет: схемы, таблицы, а на отдельном телевизоре – телевизионная информация с космодрома «Байконур” о запуске и полете ракеты-носителя, изображения космонавтов во время полета».
Тогда я переписывался с ныне покойным математиком ИМП Александром Константиновичем Платоновым и, чтобы себя проверить, спросил его про ранний ЦУП, прикрепив несколько фотографий. С учетом его работы, Платонов там бывал. Он подтвердил мои подозрения и прислал много полезной информации, аналогов которой я нигде не смог найти.
Вот что про создание ЦУПа написал Александр Константинович:
«Позже, когда Ю.К.Ходарев сделал знаменитый Евпаторийский пункт дальней космической связи, появились ПУВДы для передачи полученных радиоданных. Эти данные и вся телеметрия по каналам стали приходить в ЦНИИмаш. Поэтому и наши посиделки прочно переехали туда. Там сначала был описанный мной выше зал с отдельным помещением для начальства, но позже все баллистики стали сидеть в своем помещении, а Зал Управления стал похожим на то, что и есть на Вашем снимке. Я помню и большой экран, и бегущие часы над ним.
Нами командовал очень значимый в истории советского космоса Михаил Александрович Казанский. Его задача была формировать порядок выполнения очередных баллистических расчетов, выполнять сравнение наших результатов и, главное, обеспечивать фильтрацию сообщений в зал управления с точки зрения их надежности и своевременности. Он был очень выдержанный по должности слуга царю, а по ответственности — отец своим баллистическим солдатам. Благодаря ему баллистическая группа управления работала дружно, без промахов, как часы.
Я его вспомнил потому, что я его непрерывно убеждал, что наш труд (а он заключался в выписывании на бумажку по телефону передаваемых из ВЦ данных оперативных расчетов, их осмыслении и передаче некоторых из них в зал управления) — нужно как-то автоматизировать.
Так или иначе, но дальше развитие автоматики управления привело к тому, что в зале управления поставили несколько телевизоров (наверное, больше для солидности — на их экранах обычно стояла настроечная картинка), а позже к нам в баллистическую комнату поставили считывающую камеру, под которую можно было положить рукописный текст, который тогда увидят в зале управления с его телевизорами и телефонами.
Много позже в зале управления появился экран «Аристона» под цифровыми часами. Говорили, что этим «Аристоном» племянница Шверника решила острую проблему показа ТВ-передачи на большом экране. Реализовано это было с помощью зеркала в виде вращающегося диска с налитым на него маслом, профиль которого изменялся электрическим полем, формируемым ТВ-сигналом. Мощный луч света освещал этот диск, а рельеф такого жидкого зеркала формировал на экране отражение нужного ТВ-изображения. Вся техника была за экраном, и изображение показывалось „на просвет“.
На громадном экране «Аристона» в этом зале мы в узком кругу приглашенных смотрели перехваченную передачу «Аполлона 11» с их прыжками на Луне».
Так как данный ЦУП начал работу в 1963 году, то неудивительно, что первые его кадры я нашел в фильме, посвященном совместному полету Быковского и Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6». Этот полет проходил 16-19 июня 1963 года.
Посмотрев на него первый раз, сложно поверить в то, что это ЦУП. Слишком он отличается от современных. Больше похоже на телевизионную студию. Но хорошо виден центральный экран 2 на 1 метр, как и два боковых.Его узнал и Александр Константинович. Так что это именно он, именно через этот ЦУП управляли последними «Востоками», «Восходами» и первыми «Союзами». А также межпланетными станциями 60-х годов. И в целом, возможно, он хорошо передает дух того времени, когда только начали летать в космос, но многие нюансы еще не были разработаны или придуманы.
Очень интересно, что в зале стоял глобус Луны.
Боковой экран крупным планом:
Девушки перед экраном заняты чем-то интересным:
Скорее всего, у них в руках ленты с распечаткой информации, выданной ЭВМ. Еще интересно отметить глобус Земли и карту звездного неба.
На следующем слайде видно, как работает система отображения информации. В данном случае – показывая параметры орбиты:
Пример смены карты на центральном экране.Первый вариант посмотрите чуть выше. Изначально там была карта Советского Союза с проекцией траектории выведения ракеты. После смены проекции на меркаторскую началось отображение орбиты корабля относительно Земли.
Еще ракурс:
Вот снимок этого же ЦУПа, но из фильма 1967 года, посвященного «Венере-4»:
С 1963 года зал явно немного модифицировали. Сверху экранов можно увидеть электронные часы и таймер.Центральный экран, на сей раз, показывает траекторию перелета к Венере. Глобус исчез. Девушки переехали немного в сторону, а на стене виден плакат с компоновкой АМС «Венера-4».
Немного лучше зал рассмотреть можно на черно-белом снимке с официального сайта ЦНИИмаш.
На стенах – плакаты с изображением одной из модификаций «семерки». На центральном экране – карта СССР с НИПами. На левый экран выведена весовая сводка носителя при выведении. Слова разобрать сложно. Но одна из строчек явно «Блок Л» или «Блок И».
Траектория выведения очень похожа на реальную с наклонением 65 градусов. Трасса полета как раз проходит недалеко от полигона Кура на Камчатке. Правда, левая часть траектории замазана. Трасса начинается где-то над Томском. При этом отметка возле Байконура есть.
Можете сравнить с реальной трассой при выведении «Восхода-2»:
Также видно, что кадр из фильма про «Восток-5/6» показывает именно эту орбиту.
Последний кадр с данным ЦУПом, что я нашел, относится к «Луноходу-1», который сел на Луну 17 ноября 1970 года:
Идет рабочее совещание. Уже смонтирован экран «Аристона», и через него идет проекция части панорамы «Лунохода». На столе разложены отпечатанные панорамы Луны. Видимо, именно «Луноход-1» был последним аппаратом, с которым работал данный центр управления.
В декабре 1970 году был сдан новый координационно-вычислительный центр ЦНИИмаша. После этого постепенно к нему перешло управление кораблями и межпланетными станциями. Он работает и по сей день.
P.S. Впрочем, история советских ЦУПов им не ограничивается. Дело в том, что до ЦУПа в ЦНИИмаше был еще аналогичный в НИИ-4. Там тоже была обработка на ЭВМ М-20 и проекция на экраны. О нем упоминается и в книге ЦНИИмаша. Но ЦУП НИИ-4 был куда более секретным. В отличие от «гражданского» ЦУПа ЦНИИмаша, он изначально предназначался для РВСН.
Так что, как видите, материалов не так много. Но есть.
Интересный фрагмент из мемуаров Мозжорина о посещении данного ЦУПа (ориентировочно в 1959-1960) маршалом артиллерии В.Ф.Толубко:
«Пошли осматривать координационно-вычислительный центр. Сейчас, думаю, будут искать “показуху”. Я распорядился, чтобы показали отображение работы КИКа на большом цветном экране в полном объеме, и стал пояснять суть показываемого. Толубко внимательно выслушал и с ехидцей задал вопрос:
— А где тут “кирзовые сапоги”?
Он имел в виду анекдот, рассказываемый о ПВО, где на большом экране отображались самолеты противника, перемещающиеся с помощью солдат, получающих указания по телефону. А из-под экрана были видны кирзовые сапоги рекламируемой “автоматики”. Спокойно поясняю:
— Все, что вы видите на цветном большом экране: траекторию движения спутника, его перемещение, — все это рассчитывает ЭВМ-20, можете мне поверить. А вот НИП “заморгал” — начался прием телеметрической информации. Тут вступили в действие “кирзовые сапоги”, но они сидят в соседней комнате и по телефонной команде с пункта включают мигалку. Конечно, можно было бы автоматизировать и эту операцию, чтобы мигалку включали с измерительного пункта, но это те же “кирзовые сапоги”, однако более дорогие и ничего не прибавляющие к автоматизации отображения. На основе такого принципа отображения можно строить экраны на командных пунктах ракетных войск, чтобы следить за готовностью ракет и ракетной обстановкой.
— А еще говорят, что на КП ракетных войск не надо никаких экранов, — выразил Толубко кому-то свое запоздалое возмущение».
Но опять куда более яркие воспоминания оставил Платонов:
«После запуска первых спутников процессы управления перешли в НИИ-4 в Болшево (они во главе с П.Е. Эльясбергом отвечали за выдачу „целеуказаний“ на все пункты наблюдения). И вот, при самом первом из неудачных полетов к Марсу я (отвечающий от нашего БЦ за вопросы коррекции и других операций управления на траектории) оказался в первом в моей жизни настоящем Зале управления! Он произвел на меня большое впечатление — и сначала, и потом.
Первое впечатление: большой зал с одним или двумя столами с телефонами у входа (за ними сидели Г.С. Нариманов — руководитель космических дел НИИ-4, один из многих очень культурных военных людей, которых я встретил в жизни, и К.Д. Бушуев — зам. Королёва, безупречно спокойный и деловой человек, смотрит строго, но говорит без нажима и по делу), а далее за ними – длинная, под потолок, полупрозрачная стена этого зала — с картой мира на ней и с просвечивающими за ней солдатами, которые наносили на эту карту знаки пунктов и трассы траектории.
А перед стеной и до окон противоположной стороны зала два или три ряда одинаковых дубово-фанерных пультов оператора с полукруглой выемкой стола, с телефонами и с высокой стойкой стола с часами и двумя рядами каких-то стрелочных приборов.
Первое впечатление было уважительное: я понял, что это нам отдали зал управления полетом совсем других изделий.
Нам — баллистикам — было отведено место за самым задним и дальним по диагонали от входа пультом. И вот мы там уселись втроем — с Леонидом Шевченко, баллистиком от НИИ-4, и с Александром Дашковым, баллистиком от Королёва (СП при встречах шутливо называл его „Граф Дашков“. Саша Дашков, выпускник МГУ, беззаветный энтузиаст небесной механики межпланетных полетов, был тем человеком, кто вместе со своим подчиненным Славой Ивашкиным нашёл удивительное по красоте случайное (не связанное с небесной механикой, а просто — подарок баллистического случая) свойство лунной вертикали, обнуляющей возможные страшные 20 м/сек боковой скорости при вертикальной „мягкой“ посадке на Луну, чем фактически и спас от закрытия проект «Е-6».
И вот мы уселись, и тут я с громадным удивлением и разочарованием обнаружил, что часы на пульте есть, а остальные приборы со стрелками — нарисованы! Я пошел посмотреть на другие пульты — там все настоящее! Словом, на этом самом дальнем и, возможно, не самом нужном пульте, сделанном по законам симметрии и красоты зала, на случай взгляда генералов издалека, эти отсутствующие приборы просто нарисовали.
Так мы и сидели ряд месяцев за этим пультом в НИИ-4. И это была эпоха «Понедельника в субботу» братьев Стругацких с их НИИ ЧАВО и НИИ КОВО.
Найти фотографии данного ЦУПа достаточно сложно. Я нашел всего несколько снимков, которые, возможно, были сделаны именно в нем.
Понять, что последний снимок сделан в том же помещении, можно по лампам дневного света. Данный ЦУП заметно отличается от ЦНИИмашевского, но есть и определенные общие черты.
К сожалению, уточнить у Александра Константиновича, это ли помещение он видел в свое время, я уже не смог.
P.P.S. Также хотел заметить, что я завершил верстку первой книги об исследовании Луны. Подробнее здесь
Советский центр управления полетами времен «Востоков» и «Восходов»
Время на прочтение
8 мин
Количество просмотров 38K
Написать эту статью меня побудила вот эта фраза Филиппа Терехова из его обзора фильма «Время Первых»:
«Отдельная интересная история с Центром управления полетами, как он показан в фильме. Увы, но красивая картинка выше представляет собой копию американского ЦУПа…Внутренняя организация помещений была настолько секретной, что на фото и видео сейчас можно найти разве что имитацию для фильмов».
Замечание было верным, лично мне тоже очень хотелось узнать, как выглядел наш ЦУП времен первых пилотируемых полетов.И мне это все-таки удалось.
Конечно, ЦУП, показанный в фильме, имеет мало общего с реальным. Но можно найти и фотографии реального нашего центра управления полетами. Точнее, координационно-вычислительного центра, как он тогда назывался. Более того, уверен, что его видел и Филипп, но не понял, что это именно он.
Когда я первый раз увидел его на кадрах из фильма про «Венеру-4», я тоже не поверил, что это реальный ЦУП, приняв за декорацию. Но чем больше я изучал доступную информацию, тем яснее становилось моя ошибка.
Для начала немного сухой истории из книги ЦНИИмаша:
«Работы ЦНИИмаша по баллистическому обеспечению управления полетами пилотируемых и автоматических аппаратов начались с 1963 г. И являлись новым и, до некоторой степени, неожиданным направлением научной деятельности института. Это направление зародилось в институте с приходом нового директора Г.А. Тюлина в 1959 г. Он укрепил состав Вычислительного центра и оснастил его двумя машинами М-20. Продолжил и развил указанные направления деятельности директор Ю.А. Мозжорин, пришедший в НИИ-88 в 1961 г.
ЭВМ М-20. Снимок с сайта: Виртуальный компьютерный музей
Центр базировался на двух ЭВМ типа М-20. В КВЦ НИИ-88 были установлены два полуавтоматических устройства ввода данных для автоматического приема результатов траекторных измерений поступающих с измерительных пунктов, аналогичные устройствам КВЦ НИИ-4. Кроме этого, была заказана и разработана система коллективного отображения получаемой информации. На центральном экране размером 2 на 3 метра проектировались различные географические карты и траектория полета спутника на фоне карты, а изображение самого спутника давалось в Виде светящегося пятна. Координаты проекции траектории и положение спутника выдавались электронно-вычислительной машиной, производящей обработку результатов текущих траекторных измерений. На двух дополнительных экранах размером 1х1.5 метра, размещенных с двух сторон от основного экрана, высвечивалась статическая информация, характеризующая сопровождаемый полет: схемы, таблицы, а на отдельном телевизоре – телевизионная информация с космодрома «Байконур” о запуске и полете ракеты-носителя, изображения космонавтов во время полета».
Тогда я переписывался с ныне покойным математиком ИМП Александром Константиновичем Платоновым и, чтобы себя проверить, спросил его про ранний ЦУП, прикрепив несколько фотографий. С учетом его работы, Платонов там бывал. Он подтвердил мои подозрения и прислал много полезной информации, аналогов которой я нигде не смог найти.
Вот что про создание ЦУПа написал Александр Константинович:
«Позже, когда Ю.К.Ходарев сделал знаменитый Евпаторийский пункт дальней космической связи, появились ПУВДы для передачи полученных радиоданных. Эти данные и вся телеметрия по каналам стали приходить в ЦНИИмаш. Поэтому и наши посиделки прочно переехали туда. Там сначала был описанный мной выше зал с отдельным помещением для начальства, но позже все баллистики стали сидеть в своем помещении, а Зал Управления стал похожим на то, что и есть на Вашем снимке. Я помню и большой экран, и бегущие часы над ним.
Нами командовал очень значимый в истории советского космоса Михаил Александрович Казанский. Его задача была формировать порядок выполнения очередных баллистических расчетов, выполнять сравнение наших результатов и, главное, обеспечивать фильтрацию сообщений в зал управления с точки зрения их надежности и своевременности. Он был очень выдержанный по должности слуга царю, а по ответственности — отец своим баллистическим солдатам. Благодаря ему баллистическая группа управления работала дружно, без промахов, как часы.
Я его вспомнил потому, что я его непрерывно убеждал, что наш труд (а он заключался в выписывании на бумажку по телефону передаваемых из ВЦ данных оперативных расчетов, их осмыслении и передаче некоторых из них в зал управления) — нужно как-то автоматизировать.
Так или иначе, но дальше развитие автоматики управления привело к тому, что в зале управления поставили несколько телевизоров (наверное, больше для солидности — на их экранах обычно стояла настроечная картинка), а позже к нам в баллистическую комнату поставили считывающую камеру, под которую можно было положить рукописный текст, который тогда увидят в зале управления с его телевизорами и телефонами.
Много позже в зале управления появился экран «Аристона» под цифровыми часами. Говорили, что этим «Аристоном» племянница Шверника решила острую проблему показа ТВ-передачи на большом экране. Реализовано это было с помощью зеркала в виде вращающегося диска с налитым на него маслом, профиль которого изменялся электрическим полем, формируемым ТВ-сигналом. Мощный луч света освещал этот диск, а рельеф такого жидкого зеркала формировал на экране отражение нужного ТВ-изображения. Вся техника была за экраном, и изображение показывалось „на просвет“.
На громадном экране «Аристона» в этом зале мы в узком кругу приглашенных смотрели перехваченную передачу «Аполлона 11» с их прыжками на Луне».
Так как данный ЦУП начал работу в 1963 году, то неудивительно, что первые его кадры я нашел в фильме, посвященном совместному полету Быковского и Терешковой на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6». Этот полет проходил 16-19 июня 1963 года.
Посмотрев на него первый раз, сложно поверить в то, что это ЦУП. Слишком он отличается от современных. Больше похоже на телевизионную студию. Но хорошо виден центральный экран 2 на 1 метр, как и два боковых.Его узнал и Александр Константинович. Так что это именно он, именно через этот ЦУП управляли последними «Востоками», «Восходами» и первыми «Союзами». А также межпланетными станциями 60-х годов. И в целом, возможно, он хорошо передает дух того времени, когда только начали летать в космос, но многие нюансы еще не были разработаны или придуманы.
Очень интересно, что в зале стоял глобус Луны.
Боковой экран крупным планом:
Девушки перед экраном заняты чем-то интересным:
Скорее всего, у них в руках ленты с распечаткой информации, выданной ЭВМ. Еще интересно отметить глобус Земли и карту звездного неба.
На следующем слайде видно, как работает система отображения информации. В данном случае – показывая параметры орбиты:
Пример смены карты на центральном экране.Первый вариант посмотрите чуть выше. Изначально там была карта Советского Союза с проекцией траектории выведения ракеты. После смены проекции на меркаторскую началось отображение орбиты корабля относительно Земли.
Еще ракурс:
Вот снимок этого же ЦУПа, но из фильма 1967 года, посвященного «Венере-4»:
С 1963 года зал явно немного модифицировали. Сверху экранов можно увидеть электронные часы и таймер.Центральный экран, на сей раз, показывает траекторию перелета к Венере. Глобус исчез. Девушки переехали немного в сторону, а на стене виден плакат с компоновкой АМС «Венера-4».
Немного лучше зал рассмотреть можно на черно-белом снимке с официального сайта ЦНИИмаш.
На стенах – плакаты с изображением одной из модификаций «семерки». На центральном экране – карта СССР с НИПами. На левый экран выведена весовая сводка носителя при выведении. Слова разобрать сложно. Но одна из строчек явно «Блок Л» или «Блок И».
Траектория выведения очень похожа на реальную с наклонением 65 градусов. Трасса полета как раз проходит недалеко от полигона Кура на Камчатке. Правда, левая часть траектории замазана. Трасса начинается где-то над Томском. При этом отметка возле Байконура есть.
Можете сравнить с реальной трассой при выведении «Восхода-2»:
Также видно, что кадр из фильма про «Восток-5/6» показывает именно эту орбиту.
Последний кадр с данным ЦУПом, что я нашел, относится к «Луноходу-1», который сел на Луну 17 ноября 1970 года:
Идет рабочее совещание. Уже смонтирован экран «Аристона», и через него идет проекция части панорамы «Лунохода». На столе разложены отпечатанные панорамы Луны. Видимо, именно «Луноход-1» был последним аппаратом, с которым работал данный центр управления.
В декабре 1970 году был сдан новый координационно-вычислительный центр ЦНИИмаша. После этого постепенно к нему перешло управление кораблями и межпланетными станциями. Он работает и по сей день.
P.S. Впрочем, история советских ЦУПов им не ограничивается. Дело в том, что до ЦУПа в ЦНИИмаше был еще аналогичный в НИИ-4. Там тоже была обработка на ЭВМ М-20 и проекция на экраны. О нем упоминается и в книге ЦНИИмаша. Но ЦУП НИИ-4 был куда более секретным. В отличие от «гражданского» ЦУПа ЦНИИмаша, он изначально предназначался для РВСН.
Так что, как видите, материалов не так много. Но есть.
Интересный фрагмент из мемуаров Мозжорина о посещении данного ЦУПа (ориентировочно в 1959-1960) маршалом артиллерии В.Ф.Толубко:
«Пошли осматривать координационно-вычислительный центр. Сейчас, думаю, будут искать “показуху”. Я распорядился, чтобы показали отображение работы КИКа на большом цветном экране в полном объеме, и стал пояснять суть показываемого. Толубко внимательно выслушал и с ехидцей задал вопрос:
— А где тут “кирзовые сапоги”?
Он имел в виду анекдот, рассказываемый о ПВО, где на большом экране отображались самолеты противника, перемещающиеся с помощью солдат, получающих указания по телефону. А из-под экрана были видны кирзовые сапоги рекламируемой “автоматики”. Спокойно поясняю:
— Все, что вы видите на цветном большом экране: траекторию движения спутника, его перемещение, — все это рассчитывает ЭВМ-20, можете мне поверить. А вот НИП “заморгал” — начался прием телеметрической информации. Тут вступили в действие “кирзовые сапоги”, но они сидят в соседней комнате и по телефонной команде с пункта включают мигалку. Конечно, можно было бы автоматизировать и эту операцию, чтобы мигалку включали с измерительного пункта, но это те же “кирзовые сапоги”, однако более дорогие и ничего не прибавляющие к автоматизации отображения. На основе такого принципа отображения можно строить экраны на командных пунктах ракетных войск, чтобы следить за готовностью ракет и ракетной обстановкой.
— А еще говорят, что на КП ракетных войск не надо никаких экранов, — выразил Толубко кому-то свое запоздалое возмущение».
Но опять куда более яркие воспоминания оставил Платонов:
«После запуска первых спутников процессы управления перешли в НИИ-4 в Болшево (они во главе с П.Е. Эльясбергом отвечали за выдачу „целеуказаний“ на все пункты наблюдения). И вот, при самом первом из неудачных полетов к Марсу я (отвечающий от нашего БЦ за вопросы коррекции и других операций управления на траектории) оказался в первом в моей жизни настоящем Зале управления! Он произвел на меня большое впечатление — и сначала, и потом.
Первое впечатление: большой зал с одним или двумя столами с телефонами у входа (за ними сидели Г.С. Нариманов — руководитель космических дел НИИ-4, один из многих очень культурных военных людей, которых я встретил в жизни, и К.Д. Бушуев — зам. Королёва, безупречно спокойный и деловой человек, смотрит строго, но говорит без нажима и по делу), а далее за ними – длинная, под потолок, полупрозрачная стена этого зала — с картой мира на ней и с просвечивающими за ней солдатами, которые наносили на эту карту знаки пунктов и трассы траектории.
А перед стеной и до окон противоположной стороны зала два или три ряда одинаковых дубово-фанерных пультов оператора с полукруглой выемкой стола, с телефонами и с высокой стойкой стола с часами и двумя рядами каких-то стрелочных приборов.
Первое впечатление было уважительное: я понял, что это нам отдали зал управления полетом совсем других изделий.
Нам — баллистикам — было отведено место за самым задним и дальним по диагонали от входа пультом. И вот мы там уселись втроем — с Леонидом Шевченко, баллистиком от НИИ-4, и с Александром Дашковым, баллистиком от Королёва (СП при встречах шутливо называл его „Граф Дашков“. Саша Дашков, выпускник МГУ, беззаветный энтузиаст небесной механики межпланетных полетов, был тем человеком, кто вместе со своим подчиненным Славой Ивашкиным нашёл удивительное по красоте случайное (не связанное с небесной механикой, а просто — подарок баллистического случая) свойство лунной вертикали, обнуляющей возможные страшные 20 м/сек боковой скорости при вертикальной „мягкой“ посадке на Луну, чем фактически и спас от закрытия проект «Е-6».
И вот мы уселись, и тут я с громадным удивлением и разочарованием обнаружил, что часы на пульте есть, а остальные приборы со стрелками — нарисованы! Я пошел посмотреть на другие пульты — там все настоящее! Словом, на этом самом дальнем и, возможно, не самом нужном пульте, сделанном по законам симметрии и красоты зала, на случай взгляда генералов издалека, эти отсутствующие приборы просто нарисовали.
Так мы и сидели ряд месяцев за этим пультом в НИИ-4. И это была эпоха «Понедельника в субботу» братьев Стругацких с их НИИ ЧАВО и НИИ КОВО.
Найти фотографии данного ЦУПа достаточно сложно. Я нашел всего несколько снимков, которые, возможно, были сделаны именно в нем.
Понять, что последний снимок сделан в том же помещении, можно по лампам дневного света. Данный ЦУП заметно отличается от ЦНИИмашевского, но есть и определенные общие черты.
К сожалению, уточнить у Александра Константиновича, это ли помещение он видел в свое время, я уже не смог.
P.P.S. Также хотел заметить, что я завершил верстку первой книги об исследовании Луны. Подробнее здесь
МЫ НЕ ВИДИМ И НЕ СЛЫШИМ
ИХ, А ОНИ НАС
Зал управления спроектирован так, что люди, находящиеся на балконе и на рабочих местах, не видят и не слышат друг друга (проекторы: a — на боковой экран; б — на центральный экран; в — на боковые экраны).
Разработанный в Московском научно-исследовательском телевизионном институте проектор «Аристон» долго служил Центру управления верой и правдой.
Сейчас в ЦУПе работают швейцарские телевизионные проекторы «Eidophor».
В заэкранном помещении установлены десятки проекторов, причем у каждого на случай поломки имеется «дублер».
Наука и жизнь // Иллюстрации
Экран монитора для отображения оперативной информации (вверху) и монитор с изображением документа, снимаемого телекамерой (внизу).
На центральный и боковые экраны, на верхнее табло главного зала выдается масса информации, необходимой операторам и интересной гостям.
Американские гости входили в Центр управления через вестибюль, украшенный мозаичным панно с изображениями К. Э. Циолковского, С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.
Здание Центра управления полетами
‹
›
Многое мы сами сделать не могли, в частности разработать проект здания Центра, и бок о бок с нами начали трудиться строители и архитекторы из проектного института Ипромашпром. Мы не только вместе работали, но и вместе ходили в походы, рыбачили, катались на горных лыжах. Общение в неформальной обстановке сближало, помогало лучше понимать друг друга.
Нам удалось так скомпоновать рабочие места в зале, что сидевшим на балконе открывался для взора лишь экран, а работавших внизу видно не было (исключался «эффект затылка»), любой же из находившихся на нижнем уровне, даже оглянувшись, не увидел бы лиц гостей. Место руководителя полета по проекту находилось в самой задней части зала, и он мог контролировать всех своих подчиненных.
Кроме того, выполнив специальные расчеты, мы смогли акустически «развязать» балкон и партер. Это дало удивительный эффект: хотя в зале не было звуконепроницаемых перегородок, «верхи» не слышали «низов» и наоборот, и даже достаточно громко произнесенные реплики не достигали ушей тех, кому они не предназначались.
Наконец предложения по проекту главного зала были готовы, и их должен был утвердить директор НИИ-88 Ю. А Мозжорин. Но когда я принес ему бумаги, Юрий Александрович заявил: «Если получится плохо, то виноват окажется директор?» и отказался ставить свою подпись. Так в историю вошел документ общегосударственного значения, подписанный всего лишь начальником сектора, то есть мною,
В. К. Самсоновым. Позже я понял, что это не было обычной перестраховкой: директор оставлял себе развязанными руки, чтобы при неудаче, в случае разборок на высоком уровне, иметь возможность защищать подчиненных. (Правда, в своих воспоминаниях Ю. А Мозжорин то ли намеренно, то ли по забывчивости утверждал, что подписал проект, но оставим это на совести автора мемуаров.)
ХОРОШИЙ ПРОЕКТОР — ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Как и при оснащении малого КВЦ, на новой площадке пришлось решать массу проблем, связанных с системой отображения информации. Объем зала требовал установки экрана размером 6х8 м. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы сделать его из стекла. Решили использовать полупрозрачную гибкую пластиковую пленку. Мы опробовали более ста различных образцов: на слишком прозрачной пленке изображение не получалось контрастным, а на плотной — выглядело темным.
За разработку и изготовление проекционных аппаратов для демонстрации слайдов вновь взялись ЦКБ «Геофизика» и ленинградский Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова (ГОИ). Вместе с Изюмским приборостроительным заводом они поставили нам оборудование для отображения как статических картинок (географические карты, слайды), так и динамических, то есть периодически сменяющих друг друга объектов (различные символы, буквенно-цифровые данные и т. п.).
Еще большие трудности пришлось преодолеть, чтобы обеспечить Центр проекторами телевизионного изображения на большой экран. Основной узел такого устройства несколько напоминает кинескоп, в котором внутренняя поверхность представляет собой зеркало, покрытое специальным маслом. Под действием электрического заряда это масло деформируется. При сканировании зеркала электронным лучом его поверхность становится «шершавой» и отдельные его участки по-разному отражают падающий свет сильной лампы. При попадании на экран отраженный свет создает на нем изображение, соответствующее телевизионному.
В то время в Швейцарии и США уже производились подобные системы «Eidophor» и «Talaria», но нам рассчитывать на их приобретение за валюту не приходилось. Нам удалось разместить заказ на разработку аналога швейцарского проектора в Московском научно-исследовательском телевизионном институте, одну из руководящих должностей в котором занимала Л. Н. Шверник. Людмила Николаевна была очень талантливым инженером и, кстати, первой женщиной, окончившей до войны Академию им. Н. Е. Жуковского. Ей и ее сотрудникам удалось создать аппарат «Аристон», который по своим характеристикам нас вполне устраивал, поскольку давал достаточный световой поток, чтобы яркое и четкое изображение заполняло большой центральный экран. Впоследствии «Аристоны» выпускались Львовским телевизионным заводом.
СОРЕВНОВАНИЕ С МАШИНОЙ ВЫИГРАЛ HOMO SAPIENS
В заэкранном пространстве одновременно или в определенной последовательности должны были работать более десятка проекционных устройств. Перед теми, кому посчастливилось оказаться в этом месте и в это время, возникало поистине фантастическое зрелище, похожее на полярное сияние: лучи от проекторов вспыхивают, пляшут, переливаются цветами — ни с каким фейерверком не сравнится.
Но всем этим хозяйством нужно четко управлять, чтобы проекторы работали согласованно
по установленному сценарию. С просьбой создать систему автоматизированного управления
мы обратились в Институт кибернетики АН УССР, и его директор, создатель первых
ЭВМ академик В. М. Глушков согласился. Систему построили на базе выпускавшихся
тогда универсальных машин широкого назначения «Днепр». Эти вычислительные машины
относились к классу управляющих, и основными их элементами были электромеханические
реле. Поэтому надежность машин оставляла желать лучшего, а для нас как раз этот
параметр был главным.
Мы подолгу спорили с академиком Глушковым. Виктор Михайлович отказывался принять наши требования о 100%-ной надежности, доказывая, что ее не может быть. С позиций инженера он был, безусловно, прав. Но и мы не могли допустить возможности сбоя системы. Она ведь управляла перемещением по экрану светового «зайчика», изображавшего космический корабль. Если пропадало управление по одной из координат, «зайчик» смещался, и, хотя корабль продолжал спокойно двигаться дальше, у всех присутствующих, особенно непосвященных в суть наших проблем, возникало полное ощущение, что корабль сошел с орбиты и падает.
О том, чтобы допустить подобный «прокол» в присутствии высшего начальства, не могло быть и речи. Поэтому мы нашли оператора, который обладал великолепной реакцией. Он следил за движением «зайчика» и, уловив момент начала «падения» корабля, немедленно переходил на ручное управление.
Подобное дублирование машины человеком очень пригодилось впоследствии во время проведения программы «Союз»-«Аполлон», когда изображения с наших экранов круглосуточно передавались в Америку в режиме реального времени и любым техническим сбоям придавалось политическое значение.
ПАРАДОКСЫ КАРАНДАШНОЙ ПРАВКИ
Кроме экрана нужно было устройство для вывода текстовой информации. В середине 1960-х годов мы еще не знали об электронных табло. Нам были известны громоздкие электромеханические табло, те, что устанавливали на стадионах, в зданиях вокзалов и аэропортов. Выпуск подобных устройств был налажен на венгерском предприятии «VBKM Willez».
Приобретение аппаратуры у венгров устраивало нас, потому что эта страна входила в Совет экономической взаимопомощи и расчеты с ней осуществлялись не в свободно конвертируемой валюте, а в так называемых клиринговых рублях. Это были виртуальные деньги: ими оплачивались самые разнообразные товары и услуги, но ни один человек не мог похвастаться, что когда-либо в жизни держал в руках денежные знаки этой валюты.
В связи с секретным характером нашей деятельности нам не разрешили выйти на представителей завода напрямую, и посредником выступал Внешторг. Мы хотели заказать табло, которое управлялось бы электроникой. Венгерская фирма в принципе готова была выполнить задание, но ее специалисты предупредили, что разработкой таких устройств они не занимались и это будет их первый опыт. Свои услуги венгры оценили в 120 тысяч рублей (разумеется, клиринговых).
Мы были вынуждены принять их условия и с большим трудом добились, чтобы указанная сумма была заложена в проект Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР. Однако за несколько дней до подписания Постановления мы получили неожиданный удар от венгерской стороны. В телеграмме венгры сообщали, что им пришлось скорректировать расчеты, и теперь требовали 300 тысяч рублей, то есть в 2,5 раза больше оговоренной суммы.
Нужно было срочно отправляться в Госплан и вносить исправление в проект Постановления. Но поскольку, как сказано выше, мы с венграми напрямую не контактировали, то и об их резонах на увеличение сметы не знали и никаких расчетов и обоснований представить в Госплан не могли. Хотя я пользовался полным доверием тогдашнего первого заместителя министра общего машиностроения Г. А. Тюлина и директора ЦНИИМаша Ю. А. Мозжорина, официально я занимал должность всего лишь начальника сектора. Связаться с руководством мне не удалось и пришлось ехать в Госплан на свой страх и риск, позвонив, правда, по «кремлевке» и договорившись о встрече.
Нашим куратором была Т. Ф. Пискарева, занимавшая достаточно высокую должность. Услышав просьбу об увеличении суммы со 120 до 300 тысяч инвалютных рублей, не подкрепленную никакими письмами и документами министерства, она ответила решительным отказом. Полностью сознавая авантюрность своей позиции, я пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить ее в «необходимости…, важности…» и т.п. Но Татьяна Федоровна стояла на своем, а когда узнала о моем служебном положении, то вообще вскипела: «Уходите и больше не появляйтесь в Госплане. Пусть ко мне лично приезжают либо Тюлин, либо Мозжорин!»
Формально она была права. Но и я не мог покинуть Госплан без положительного результата: если моя просьба не будет учтена и неисправленный проект Постановления уйдет на подпись, то срыв сроков создания Центра становится более чем реальным.
Целый час я гулял по коридорам Госплана, сидел на подоконниках и думал, как выйти из положения. Я знал, что муж Пискаревой работал помощником Д. Ф. Устинова и она, конечно, представляла себе особенности нашей работы. Поэтому решился на вторую попытку. На этот раз товарищ Пискарева более спокойно выслушала меня и сказала: «Ну ладно, я исправлю карандашом цифру «120» на «300», и посмотрим, что из этого получится».
В полиграфии есть правило, по которому правка карандашом не учитывается. Но свершилось чудо: отредактированный карандашом документ через несколько дней подписали
Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛИ ПАРТИЙНОСТЬ?
Нервотрепка, связанная со злосчастным табло, на этом не закончилась. Чтобы согласовать техническое задание, нужно было отправляться в командировку в Будапешт. Там следовало оговорить все нюансы проекта, ни словом при том не обмолвившись о его назначении. После изготовления аппаратуры нам предстояло монтировать ее в присутствии венгерских специалистов где-то на «нейтральной» территории, потом самим разбирать, перевозить в Центр и снова монтировать.
Поездка, равно как и подготовка к ней, оставила массу неприятных воспоминаний. В то время я был руководителем достаточно высокого ранга (в моем подчинении находилось около 200 человек), но членом КПСС я не стал (диссидентом тоже, впрочем, не был). По неписаным законам меня даже в страну социалистического лагеря могли отправить лишь «под присмотром» идеологически надежного товарища. Им оказался весьма средних способностей инженер из моего отдела, обладавший тем неоспоримо привлекательным для отдела кадров качеством, что был членом парткома.
В Будапеште он активности не проявлял, а в последний день, когда нужно было
подписывать документы, вообще куда-то исчез. Возможно, занялся написанием отчета,
после которого я на десятилетия стал «невыездным».
Хотя на венгерскую аппаратуру были затрачены большие средства, она еще долго оставалась нашей головной болью. Все пришлось переделывать практически полностью, чтобы добиться необходимого уровня надежности.
У НАС МОНИТОРЫ ПОЯВИЛИСЬ ЗАДОЛГО ДО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Параллельно с решением задач отображения коллективной информации приходилось думать о средствах и способах обеспечения необходимыми данными операторов на их рабочих местах. Мы предусматривали, что к операторам будет поступать информация двух типов: телевизионные образы бумажных документов и оперативная — в частности, телеметрическая — информация в буквенно-цифровом виде. Для воспроизведения документов применялись мониторы (тогда их называли индикаторами) с обычными телевизионными экранами на 625 строк и мониторы с экранами, расположенными вертикально, повышенного стандарта разложения на 1125 строк. На этих экранах можно было без особого труда прочесть газетный текст.
Вывод оперативной буквенно-цифровой информации можно было организовать по-разному: «рисованием» знаков отрезками кривых (синусоид) на экране, применением электронно-лучевых трубок с масками типа характрона*, микрорастрами (в этом случае каждый знак на экране формировался отдельно) или электронными мини-табло. Нам предстояло выбрать самый удобный и перспективный способ. Мы решили рискнуть и направили все усилия на разработку телевизионного принципа микрорастрового отображения символов. Жизнь показала, что мы угадали верное направление, и сейчас практически все системы отображения используют телевизионный сигнал в качестве основного носителя информации.
Мы создали также очень мощную систему управления мониторами. Телеметрическая информация о параметрах орбиты, состоянии систем корабля и космонавтов, поступающая из космоса, обрабатывалась на машинах БЭСМ-6, «Урал-11» и «Урал-14» и автоматически распределялась по 300 рабочим местам. При этом каждый оператор получал нужную информацию, а лишняя до него не доходила.
МЫ БЫЛИ «ГЛАВНЫМ КОНСТРУКТОРОМ»
Таким образом, мы создавали КВЦ по большей части своими силами, разрабатывая технические задания, организуя научные исследования и подготовку документации, искали заводы-изготовители, «пробивали» поставки оборудования, вводили его в эксплуатацию, разрабатывали математическое обеспечение для вычислительной техники и т. д. и т. п. Мы не только не имели генерального подрядчика, не было у нас и полноценного проекта — были отдельные документы по различным системам, и мы работали, как говорится, «с колес». Оно и к лучшему: главные конструкторы и военные продолжали активно сопротивляться самой идее создания на базе ЦНИИМаш КВЦ с перспективой превращения его в Центр управления. При обсуждении мы наверняка получили бы массу замечаний, и проект был бы отправлен на доработку. А наши конкуренты тем временем добились бы строительства Центра управления где-нибудь в Евпатории. Этого мы никак не могли допустить. Случись по их желанию, сейчас бы мы за свой собственный Центр управления платили бы украинцам, как платим Казахстану за Байконур.
Короче говоря, наша небольшая группа взяла на себя почти все функции, которые должен выполнять Главный конструктор КВЦ, хотя и не очень задумывались об этом. Когда в 1973 году к нам приехали американцы из НАСА, чтобы определить, насколько пригоден КВЦ для управления совместным полетом кораблей «Союз» и «Аполлон», они, пораженные главным залом управления, спросили меня, какая фирма проектировала и строила зал и создавала систему отображения. Ответ был, что все мы делали сами. «Значит, вы и есть Главный конструктор!» — последовал восторженный возглас. Услышать такой отзыв о работе было лестно, но несравнимо большую радость мы испытали в 1971 году, когда ввели в эксплуатацию уникальный комплекс управления и отображения, ставший «лицом» Центра.
ЗАВЕСА СЕКРЕТНОСТИ ПАЛА
КВЦ, естественно, относился к совершенно секретным учреждениям, поэтому наши научные и технические достижения оставались неизвестными даже тем, кого могли напрямую касаться. Но в 1972 году между СССР и США было заключено межправительственное соглашение о совместной космической программе. Она называлась «ЭПАС» (экспериментальный полет Аполлон-Союз) и предусматривала проведение в 1975 году совместного полета и стыковки на орбите пилотируемых кораблей — советского «Союза» и американского «Аполлона». Встал вопрос о включении нашего КВЦ в систему управления этим полетом. Для этого центр нужно рассекретить. Но Министерство обороны и КГБ были категорически против. Их руководство предлагало построить возле Института космических исследований АН СССР (в районе станции метро «Калужская») типовое стеклянное здание парикмахерской и в нем с помощью телефонной связи имитировать работу Центра дальней космической связи в Евпатории. В том же здании предлагалось расположить американскую группу управления.
Все это выглядело абсолютным абсурдом: американцы бы тут же обнаружили «липу», отказались вместе работать и вся программа сорвалась бы. Д. Ф. Устинов лично обратился к Л. И. Брежневу, а тот надавил на председателя КГБ Ю. В. Андропова и министра обороны А. А. Гречко, сломив их сопротивление.
Таким образом, с 1973 года КВЦ стал открытым объектом и по согласованию с американцами назывался отныне ЦУП-М (Москва), а центр в США — ЦУП-Х (Хьюстон).
В октябре 1973 года в ЦУП-М прибыла первая американская делегация во главе с заместителем директора НАСА Д. Лоу. В группу входили также директор проекта ЭПАС Г. Ланни, руководитель полета П. Фрэнк и журналисты. У нас, работников ЦУПа, перспектива встречи с участниками делегации вызвала шок. В «святая святых» пустили даже не граждан дружественных «стран народной демократии», а самого «потенциального противника» — американцев, от которых, главным образом, мы все и скрывали!
Не обошлось без курьезов. Когда колонна машин из Москвы двинулась по Ярославскому
шоссе, американцы заволновались. Они считали, что ЦУП располагался в Звездном
городке. По их разведданным, по фотографиям со спутников именно там шло большое
строительство. Кстати, сотрудник КГБ, ответственный за секретность, был награжден
орденом, а американский разведчик, по слухам, уволен из ЦРУ.
СОТРУДНИЧЕСТВО ОКАЗАЛОСЬ ПЛОДОТВОРНЫМ
Американские специалисты очень придирчиво осматривали нашу технику, просили снять с аппаратуры задние стенки, оценивали «начинку», задавали детальные вопросы. Особенно сильное впечатление произвел на них зал управления. «У вас и у нас центры управления практически идентичные» — такая оценка сняла вопросы о совместной работе обоих ЦУПов. По предложению американцев в экстремальных случаях они пользовались бы для управления «Аполлоном» данными советских станций слежения, а мы — данными их станций.
Позже нас посетили директор НАСА Дж. Флетчер, астронавты Т. Стаффорд, Д. Слейтон и В. Брандт, другие специалисты. В итоге американцы выдвинули три дополнительных требования:
обеспечить автономное электропитание на базе дизель-генераторов;
разработать систему непосредственной выдачи команд из ЦУПа на борт кораблей;
на время совместной работы предоставить американской группе управления отдельный корпус.
Мы все выполнили и в дальнейшем поминали американцев добрым словом: наше оборудование работало бесперебойно даже тогда, когда экскаваторы рвали подземные кабели Мосэнерго, а подъемные краны повреждали воздушные линии электропередач…
Заранее было оговорено, что все телефонные переговоры и телевизионные материалы станут общей собственностью; круглосуточно в пресс-центр, организованный в гостинице «Националь», и в эфир шли репортажи из обоих ЦУПов (в Москве для этого был выделен 8-й канал Центрального телевидения).
Все техническое обеспечение программы «ЭПАС», в том числе средства обеспечения старта, полета и посадки, в основном было подготовлено к сроку.
И вот 15 июля 1975 года стартовал корабль «Союз-19», а вслед — «Аполлон», и 17 июля в космосе состоялась первая международная стыковка! Совместный полет продолжался до 21 июля, а 25 июля 1975 года успешно прошла посадка.
Атмосфера в эти дни в ЦУПе была необычной, балкон в зале управления заполнили официальные лица. Американская сторона была представлена послом США в СССР У. Стесселем (кстати, на лекции, которую нам читали перед приездом гостей, было сказано, что посол приходился потомком русскому генералу А. М. Стесселю, командовавшему русской армией в Порт-Артуре), многие иностранцы были с женами.
Для представителей ЦК КПСС, Совета министров и Главных конструкторов из тех, кому «не рекомендовалось» контактировать с иностранцами, мы оборудовали в старом зале отображения малого КВЦ все условия для работы, туда транслировалась вся информация, включая изображения с камер, установленных в большом зале управления, что создавало эффект присутствия.
Но привычка перестраховываться сработала и на этот раз. Советское руководство опасалось, что во время спуска корабль отклонится и совершит посадку вдали от предполагаемой точки. Для съемки момента посадки использовалась передвижная телевизионная станция «Марс», которую в этом случае не удалось бы быстро перебазировать. Поэтому о телевизионном репортаже с места посадки советское руководство заранее не сообщило, чтобы не дать повода американцам позлословить. К счастью, все прошло по плану. Прямая передача состоялась и стала приятным сюрпризом для присутствующих. Как нам сообщили, в США видеозапись посадки транслировали ежечасно в течение всего дня.
ПАРИТЕТ ПО СТУЛЬЯМ
О перипетиях первого совместного космического полета написано много, и все же позволю себе остановиться на забавном эпизоде, оставшемся «за кадром».
Как я упоминал, к ЦУПу сделали трехэтажную пристройку, где должны были с комфортом разместиться члены консультативной группы НАСА. В пристройке были устроены гостиничные номера, обставленные хорошей импортной мебелью. Мне поручили координировать работу американцев с советскими специалистами, обеспечивать их информацией и техническими средствами.
Накануне приезда группы в Москву позвонил О. И. Бабков, руководитель советской консультативной группы в хьюстонском ЦУПе. Он сообщил о спартанских условиях, в которых оказались наши инженеры. Мол, спать приходится на стульях, трудно решать и некоторые бытовые проблемы. Из МИДа и КГБ тут же поступило указание соблюсти принцип паритета. Мы заперли гостиницу (как оказалось, навсегда: позже пристройку переделали под служебные кабинеты), поставили в рабочем помещении консульта тивной группы дополнительные стулья и кресла (отечественные). Американцы восприняли все как должное, между нами установились прекрасные рабочие и человеческие отношения, которые до конца совместной деятельности ничем не были омрачены.
ОНИ — В ЯПОНИЮ, МЫ — НА КАРТОШКУ
После завершения программы пришло время расставаться. Делясь своими дальнейшими планами, американцы сообщили о намерении возвращаться в США через страны Азии и Японию, чтобы иметь возможность посмотреть мир. Мы тоже сразу после окончания работы собирались на время оставить рабочие места, но ехать нам предстояло не за границу, а на колхозные поля. Дело в том, что на время активной подготовки к полету «Союза» и «Аполлона» инженеров ЦУПа не привлекали к работе по оказанию шефской помощи колхозам, стройкам, овощным базам. Но саму помощь никто не отменял, за нас ездили другие, накапливая наш долг. Срок оплаты долга настал в день отъезда американцев…
ЭПИЛОГ
Благодаря программе «Союз»-«Аполлон» наш Центр управления полетами стал открыт всему миру, мы смогли наглядно продемонстрировать высокий уровень отечественной техники. Теперь к нам то и дело обращались с просьбами поделиться достижениями, заимствовали многие наши технические решения. Мы безвозмездно давали заводам разрешения на выпуск соответствующих устройств, и командные пункты в Центре дальней космической связи в Евпатории, в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в Институте медико-биологических проблем приобрели облик, во многом схожий с залом управления ЦУПа.
За создание Центра управления полетами коллектив разработчиков в 1978 году был награжден Государственной премией СССР.
Из ЦУПа управляли полетами орбитальных станций «Салют» и «Мир», аппаратами, летавшими к Венере, Марсу, комете Галлея. Когда начали осуществлять программу кораблей многоразового использования, А. В. Милицын настоял на строительстве нового центра управления, который был бы полностью взаимозаменяем с существующим. Люди и оборудование на новом ЦУПе сработали безупречно, обеспечив полет и посадку многоразового корабля «Буран» в автоматическом режиме. Позже программу свернули, но идея двух ЦУПов себя оправдала, и сейчас из нового центра ведется управление полетом Международной космической станции.
* Характрон, или знакопечатающий электронно-лучевой прибор — трубка, в которой на пути электронного пучка помещена непрозрачная маска с отверстиями в виде букв и цифр. В характроне имеются две отклоняющие системы: одна — перед маской — направляет пучок на изображение нужного знака, а другая — после маски — направляет вырезанную часть пучка в нужное место экрана.
Кто в небе главный? Легендарные авиаконструкторы, чьи имена вписаны в историю, инженеры, которые сегодня разрабатывают авиационные комплексы будущего, заслуженные летчики-испытатели и Герои России, которые учат железные машины летать. Об их труде и заслугах мы знаем немало. В обеспечении полетов задействовано большое количество специалистов – инженеры и техники, работники аэропортовых служб и службы безопасности. Но все же самые важные люди, которые обеспечивают безопасность воздушного движения, – руководители полетов и авиадиспетчеры. Их арсенал – четкий расчет, вовремя отданная команда и железные нервы. Они – герои нашего репортажа.
Аэродром «Раменское» в Жуковском, которым управляет Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, уникальная по своему функционалу воздушная гавань. На его территории проходят испытания авиационной техники. Все конструкторские бюро страны имеют здесь свои летно-испытательные базы. На территории базируется техника МЧС России. А с 2016 года открылся гражданский аэропорт. Только здесь руководители полетов имеют сразу два допуска к службе – свидетельства гражданской и экспериментальной авиации.
«Гражданский» набор
Раньше на командно-диспетчерском пункте командовали заслуженные летчики, командиры авиационных полков, дивизий, инспекторы воздушных армий, которые летали на всех видах авиационной техники того времени, участвовали в боевых действиях. Гражданских пилотов, людей без большого летного опыта на «вышку» аэродрома экспериментальной авиации не допускали. Только опытный летчик, который знал, что происходит с машиной в воздухе, мог руководить испытательными полетами. Но шли годы, оставалось меньше фронтовиков, уходили легендарные асы. Надо было кардинально решать кадровый вопрос. И тогда в 1974 году начальник Летно-испытательного центра ЛИИ им. М. М. Громова, Герой Советского Союза, заслуженный летчик СССР Валентин Васин и начальник комплекса «Д» (управление воздушным движением), Герой Советского Союза, летчик Николай Лацков решились сделать набор из «гражданских».
Помимо физического здоровья от кандидатов требовались психоэмоциональная устойчивость, умение работать в стрессовых ситуациях. Авиадиспетчеры проходили врачебно-летную экспертную комиссию, подвергались точно таким же психологическим тестам, как и летчики-испытатели.
Полеты по вертикали
Основные московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково совокупно в пиковые часы способны обслуживать 47-59 воздушных судов в час. Можно только представить какую нагрузку испытывают там авиадиспетчеры? В «Раменском» меньшая интенсивность воздушного движения компенсируется сложностью программы полетов и разнообразием авиационной техники – от сверхзвуковых ракетоносцев до сверхманевренных истребителей. Это первое, о чем рассказал встречавший нас в ЛИИ им. М. М. Громова заместитель начальника летно-испытательного центра по обеспечению полетов и управлению воздушным движением Николай Шматов.
Здесь на «Раменском» у авиадиспетчеров особенное, привилегированное, как они сами говорят, положение. Если в гражданском аэропорту диспетчеры отвечают только за зону взлета и посадки, то в ЛИИ им. М. М. Громова – за все воздушное пространство на высотах от 0 до 30 тыс. м и на дальности до 220 км. Руководитель полетов зоны испытательных полетов принимает управление воздушным судном на удалении от 50 км до 220 км от взлетно-посадочной полосы (ВПП). Испытания авиационной техники в этой зоне могут проходить на разных режимах и высотах.
Как и в любом гражданском аэропорту, «на вышке» в Жуковском разделены функции диспетчера руления, который разрешает запуск и руление (буксировку) воздушного судна на предварительный старт, и диспетчера старта, который разрешает самолету занять исполнительный старт уже на ВПП. После взлета управление переходит к диспетчеру круга, который управляет самолетом в радиусе примерно 12-15 км. Затем вступает в свои права диспетчер подхода, который выводит воздушное судно на эшелон до удаления 40-60 км.
Руководить – значит предвидеть
В день знакомства редакции «Горизонтов» с работой диспетчерской службы на смену заступил один из опытных руководителей полетов Александр Сугробов, который работает в ЛИИ им. М. М. Громова уже 40 лет. Смена длится 9 часов днем и 12 ночью. Руководитель полетов ставит задачи, координирует работу всей группы, берет на себя управление в критических ситуациях. Кроме него в состав смены входят старший диспетчер управления воздушным движением и 6-8 диспетчеров. Каждый заступает на свое рабочее место, которых здесь 7, и отвечает за определенную зону управления.
На вопрос в чем заключается работа руководителя полетов, Александр Сугробов отвечает коротко, почти по-военному: «Руководить – значит предвидеть». Одновременно под управлением в воздушном пространстве могут находиться несколько самолетов, выполняющих испытательные полеты: сверхскоростные и сверхманевренные истребители, огромные транспортники, пассажирские самолеты, летающие лаборатории для тестирования новых образцов двигателей. И каждый должен выполнить свою сложную полетную программу на заданной высоте, определенной скорости при различных режимах, в том числе – критических. Руководителю полетов необходимо проанализировать ситуацию, принять правильные решения и при этом обеспечить безопасность, учитывая погоду и даже орнитологическую обстановку.
В отличие от гражданской авиации, в экспериментальной – программа полетов каждый день разная. За всю историю ЛИИ им. М. М. Громова в небо над Жуковским поднимались самолеты всех типов и их модификации, построенные в Советском Союзе, Российской Федерации и даже аналог космического корабля «Буран», но о нем речь пойдет дальше.
Понятно, что в экспериментальной авиации всегда готовы к так называемым нештатным ситуациям. И команда здесь может быть, к примеру, «Катапультируйтесь», что означает «Срочно покиньте самолет».
«Показательное катапультирование»
Руководители полетов со стажем вспоминают разные ситуации из своей практики. Интересный случай был во время одного из авиасалонов. Из задней кабины специально оборудованного самолета Су-7Б в процессе разбега по ВПП отстреливалось кресло с манекеном с последующим раскрытием парашюта и спасением летчика в пределах ВПП. В момент срабатывания пиропатронов кресла начался пожар в катапультируемом отсеке. Летчик сообщил, что самолет не управляем. С «вышки» прошла команда катапультироваться, уже «по-настоящему». При этом было принято решение не прекращать полеты, а совместить поисково-спасательные работы и демонстрационную программу авиасалона. Зрители ничего не заметили. И только специалисты поняли, что произошло.
В группе руководства полетов в тот момент напряжение было максимальным. На ВПП для зрителей продолжалось показательное спасение манекена «Ивана». А вертолет с группой спасателей вылетел на поиски летчика-испытателя, который катапультировался из неуправляемого самолета, в предполагаемый квадрат его приземления. Все закончилось благополучно, никто не пострадал.
Испытание юбилеем
По-настоящему напряженно, вспоминают в службе управления воздушным движением ЛИИ им. М. М. Громова, было во время празднования 100-летия ВВС России в 2012 году. Программа полетов включала выступления пилотажных групп, показательные полеты отдельных самолетов с демонстрацией фигур высшего пилотажа и проходы воздушных судов вооруженных сил России в боевом порядке на минимально разрешенных скорости и высоте.
По напряженности «воздушного движения» для авиадиспетчеров тот день был сравним с летной программой на МАКСе и с парадом на Красной площади, если проводить их в одном месте и в одно и то же время. Конечно, такое мероприятие требовало от всей группы руководства полетов максимальной концентрации внимания, контроля и ответственности. На расстоянии примерно 135 км самолеты выстраивались в определенную последовательность и направлялись на приводной маяк аэродрома «Раменское». Пока очередной боевой порядок был на подходе зрителей удивляли виртуозы-пилотажники или летчики-испытатели авиационных ОКБ. Интервал между проходами самолетов в боевом порядке и работой пилотажных групп был менее минуты. И в каждый момент времени в небе что-то происходило. Диспетчерам и руководителю полетов надо было обеспечить, чтобы все самолеты и вертолеты подошли вовремя и четко выполнили свою программу, не мешая друг другу. С задачей справились благодаря четкому штурманскому расчету и организации взаимодействия с группой управления полетов ВВС.
Всего из воздушных судов ВВС было сформировано 48 групп, в каждой группе по 3-6 машин. В тот день с 11 утра и до 6 вечера порядка 280 единиц техники продемонстрировали пилотаж в небе над Жуковским.
Как руководили посадкой «Бурана»
Опытные руководители полетов рассказывают, что участвовали в ответственных и интересных программах испытаний. Например, программа многоразового космического корабля «Буран». В Жуковском летал аналог «Бурана» БТС-002 для тестирования в атмосфере. Для этого был выделен специальный пункт управления летным экспериментом. Аналог космического корабля заходил на посадку по крутой глиссаде, угол наклона которой составлял 19 °. Для сравнения – угол наклона к глиссаде у любого другого воздушного судна 2,5-3,5 °. Визуально это выглядело, как будто корабль вертикально падает на землю. Руководители полетов, которые участвовали в программе, проходили специальную подготовку, летали на космодром Байконур. У руководителей полетов была непроста задача вывести буквально «вывалившийся» из космоса в атмосферу летательный аппарат по заранее заданной траектории на ВПП. Посадка корабля осуществлялась в автоматическом режиме. Поэтому каждую из возможных траекторий необходимо было не просто рассчитать, но и отработать на опытном самолете при испытаниях. На аэродроме «Юбилейный» на Байконуре для этого был создан отдельный зал управления автоматической посадкой «Бурана» по отработанным траекториям. Все, кто тогда принимал участие в программе, проделали титаническую работу. Хотя состоялся лишь один реальный полет в космос «Бурана», был получен бесценный опыт, который помогает и сегодня обеспечивать безопасность полетов.
Главней всего – погода
Насколько успешно будет выполнена программа полетов, во многом зависит от погоды. Точность прогноза здесь, в прямом смысле, имеет жизненно важное значение. В метеорологической службе ЛИИ им. М. М. Громова не просто квалифицированные сотрудники, а специалисты с дипломом МГУ. Обаятельные дамы составляют метеорологическую сводку на ближайшие сутки: видимость, ветер, температура, давление, высота нижней границы облаков, а также карту опасных явлений.
Ежедневно представители всех ответственных подразделений собираются на предполетную подготовку и докладывают о готовности своего участка: аэродромная служба, служба светотехнического оборудования, инженер по эксплуатации радионавигационной техники, инженер службы связи. Всю работу координируют начальник ЛИЦ и его заместители.
Знать наверняка
Вадим Кузин родился в 1964 году в городе Елизово Камчатской области в семье военного летчика. Начинал трудовой путь авиамехаником по приборам на ЭМЗ им. В. М. Мясищева. Затем поступил в Рижское летно-техническое училище гражданской авиации, после окончания которого в 1985 году по распределению попал в ЛИИ им. М. М. Громова. Участвовал в программе испытаний по корабельной тематике, работал на авианесущих крейсерах и кораблях в Черном, Балтийском и Баренцевом морях. В настоящее время работает заместителем начальника комплекса УВД ЛИЦ.
— Как готовят руководителей полетов и авиадиспетчеров, чтобы не растеряться и выбрать единственно правильно решение?
— Нужны глубокие знания и умение правильно их применить. Если чего-то не знаешь, то начинаешь сомневаться в своих действиях. А ты не должен об этом задумываться, ты должен знать наверняка. Вот это наши инструкции (показывает папку). Подобных документов, которые регламентируют нашу работу порядка 40. Все это мы должны знать.
— Как вы выбрали профессию авиадиспетчера и оказались в ЛИИ им. М. М. Громова?
— Я работал механиком на ЭМЗ им. В. М. Мясищева до училища. Затем закончил Рижское летное училище и по распределению попал сюда. Летную практику при школе летчиков-испытателей в ЛИИ им. М. М. Громова мы проходили в качестве штурманов. Это было обязательно. Нам повезло, мы прошли хорошую школу. Нас готовили «деды»-полковники, которые командовали полками. Сейчас авиадиспетчеры не имеют опыта летной работы. Я начал, как и все, с зоны испытаний, водил самолеты туда-обратно: курс 90 и курс 270.
Цифровые технологии на смену
— Какая техника используется в Вашей работе? Помогают современные цифровые технологии?
— У нас целый комплекс радиотехнических средств управления полетами. Мы получаем информацию со всех локаторов, которые стоят в московской зоне. Это очень помогает. Я раньше видел одну метку – желтую точку, ее координаты и каким курсом борт направляется. А сейчас за каждым бортом на цифровых мониторах открывается целый формуляр, надо только уметь читать эту информацию. Раньше все делали вручную. Параметры полета – азимут и дальность, которые диспетчер видел на индикаторе кругового обзора, переносили на специальную палетку, информацию о высоте получали от командира воздушного судна. А сейчас всю информацию собирает электроника.
Тест на устойчивость
— Профессия авиадиспетчера одна из самых ответственных. Как вы готовитесь к критическим ситуациям?
— В экспериментальной авиации мы всегда готовы к этому. Мы отрабатываем и проходим специальные тренажи по отказам и т.д. К примеру, заходят на посадку 4 самолета. У каждого может быть какой-то отказ. Ты выбираешь, кому тяжелее лететь, кому – легче, и выстраиваешь их в очередь. Нельзя суетиться, повышать голос. Если диспетчер начнет нервничать, это волнение передается летчику.
— Помимо тестов на устойчивость, нужны специфические знания?
— Только тренировка. Ты сам себя должен постоянно проигрывать в голове различные ситуации. А вот если что-то случится, чтобы ты сделал? Вот сиди и отрабатывай. Этому и учим наших стажеров. Сзади у него стоять и все время подсказывать – бесполезно, в «голевой» ситуации человек растеряется.
— Вы рассказывали, что участвовали в программе испытаний на авианосце и руководили полетами корабельной авиации.
— В корабельной авиации руководитель взлета и посадки, как минимум, командир эскадрильи, действующий летчик. Он знает, как управлять самолетом, сам не раз садился на эту палубу. Он командует. Хотя у нас и телеметрия там стоит очень мощная и камер 16 штук, но все это лишь ему в помощь. Представьте сами, самолет должен сесть на палубу длиной около 150 метров, что в несколько раз короче любой ВПП. Причем над морем и на движущийся корабль. Если сравнивать, при посадке на палубу летчику отдается в два раза больше команд, чем на земле. Поэтому, если пилот имеет от 40 до 70 взлетов-посадок с палубы, то это уже очень опытный летчик. Мастерство здесь – это слаженная коллективная работа всей группы управления полетами!
Романтика профессии
— А если сравнивать поколение. Вот у вас сидит на одном из рабочих мест авиадиспетчера парень молодой совсем.
— Ребята приходят хорошо подготовленные как диспетчеры гражданской авиации. Но они не имеют летной практики. У нас в училище была летная практика на специально оборудованных самолетах-лабораториях. При выпуске мы имели еще и военную специальность – штурман корабля. Я знаю, какие операции выполняет экипаж воздушного судна во время полета.
– Здесь все нестандартно в сравнении с другими гражданскими аэропортами. Столько разнообразной техники ты не увидишь больше нигде. Люди приезжают раз в два года на авиасалон, чтобы на все это посмотреть. А ты каждый день все это видишь. Ты этим управляешь. Даешь команды. Герои России эти команды выполняют, и это осознавать очень приятно. Когда работал в других аэропортах, отрабатывали различные ситуации, вплоть до отказов или посадки с больными пассажирами. Здесь тренируемся на практике под началом опытных руководителей. На МАКСе еще не довелось поработать, но, надеюсь, в этом году получится.
Домашний авиасалон
— Кто руководит полетами во время МАКСа?
— Плановая таблица показательных полетов на МАКСе формируется исходя из зрелищности и совместимости. У каждой программы полетов своя драматургия. К примеру, пилотаж Су-57 нельзя показывать вместе с МиГ-29. Цель пилотажа максимально показать технические возможности самолетов или группы самолетов. К МАКСу начинают готовится заранее. Специальная комиссия оценивает как безопасность, так и зрелищность в зоне демонстрации. Авиасалон для специалиста, который управляет, это очень большое напряжение и концентрация внимания. Диспетчеры меняются на пульте каждый 30-40 минут. Обычно для работы во время МАКСа мы отбираем самых опытных диспетчеров с опытом работы не менее 30 лет.
— Сложно с иностранцами?
— У итальянцев есть аттракцион «crazy pilot». Когда он летит на уровне вышки, на высоте 36 метров, выполняя кульбиты, с дымами, красиво. Это опасно. Но во время пилотажа у каждой группы на поле свой руководитель полета, как правило, летчик. За кульбиты он несет ответственность. Наша задача привести, вывести, отдать им зону и, пока они выполняют пилотаж, никого не допустить в эту зону.
— На каком языке общаетесь с иностранными пилотами?
— В гражданской авиации строго определенная фразеология радиообмена. В экспериментальной, помимо регламентированных команд, могут использоваться разговорные фразы. Приходиться спрашивать у летчиков, что случилось, если какие-то нештатные ситуации. Авиадиспетчер продолжает разговор с командиром воздушного судна на том языке (английском или русском), на котором тот вышел на связь.
Абсолютное большинство персонала ОВД в группах руководства полетами владеет уровнем языковой компетентности по шкале ИКАО – 4 (рабочий).
Экспериментальный и гражданский: игра на одном поле
С тех пор как два с половиной года назад в «Раменском» открыли гражданский аэропорт, работы у авиадиспетчеров ЛИИ им. М. М. Громова значительно прибавилось. Приходится благополучно совмещать полеты гражданских воздушных судов и испытательных. Есть свой регламент: до 10 и после 17 – гражданские рейсы, днем – испытательные полеты.
У гражданских самолетов определенные точки входа, выхода и специальные траектории захода на посадку. Они идут по кратчайшему расстоянию в зону посадки. У летчиков-испытателей в программе полетов может быть все – штопор, сваливание, виражи. Главная задача диспетчера – спланировать так, чтобы пассажиров не потревожить, дать гражданскому самолету как можно прямее выйти на точку входа в глиссаду. А летчику, который выполняет испытательный полет, дать необходимые команды, чтобы он не помешал гражданскому борту, не подошел ближе положенного. И вот здесь в каждый момент времени нужен точный расчет, чтобы обеспечить безопасные траектории полетов каждого из воздушных судов, чтобы в воздухе их пути не пересеклись.
Руководитель полетов. Новый взгляд на профессию
10 июня 2015 года / Борис Машин / Aviation EXplorer
Как известно из определения: «Квалификация — степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида работы. Сочетание навыков, знаний и отношения к делу, необходимых для выполнения той или иной задачи в соответствии с установленным стандартом». Возникает вопрос: существует ли стандарт для специалиста службы движения, специалиста высшей квалификации гордо именующимся руководителем полётов? Чем руководствуется РП в своей ежесменной деятельности?
 |
Машин Борис Борисович Старший инструктор тренажёра Санкт-Петербургского Центра ОВД Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
Если для диспетчера службы движения ответ на этот вопрос не вызывает сомнений, поскольку его работа прописана в технологии работы и детализируется в ФАПах, то для РП это абсолютно открытая тема для дискуссий.
Как описать процессы принятия решений, которыми руководствуются руководители полётов в стандартных ситуациях и при возникновении нештатной обстановки? Ведь часто, за доли секунды необходимо оценить и найти путь, который обеспечит безопасный исход полёта. Почему в одних случаях решение находится вне существующих норм и правил и в этих случаях нестандартные варианты спасают человеческие жизни, а в других «благие намерения» и строгое следование документам приводят к отрицательному результату? Чему необходимо учить руководителей полётов и что остаётся за рамками стандартных подходов? Когда и в какой степени применять документы? Работать на безопасность или на прокурора? И вообще, можно ли создать технологию работы руководителя полётов?
«Технология работы – последовательность действий направленная на достижение определенного результата»
Можно ли создать технологию работы художника? Поэта? Шахматиста? Описать процесс созидания и втиснуть его в рамки «стандарта»?
«Выбрать фигуру. Правой рукой взяться за неё. Поднять над доской и поставить фигуру на соответствующую клетку доски. Нажать кнопку на шахматных часах, тем самым, передав ход противнику…»Или. «Подготовить холст, развести краски, нанести мазок в соответствующую точку холста, нарисовать пейзаж или портрет…», «Выбрать слова рифмующиеся друг с другом…» . Чем не пример «технологий», описывающих процесс или последовательность действий?
Ответ прост. Поскольку деятельность РП не может быть описана как последовательность действий – создать Технологию невозможно. Да и нужно ли?
Возникает парадоксальная ситуация. Стандарта на сегодняшний день не существует, а профессия и активная деятельность руководителей полетов, направленная на обеспечение безопасности полётов, реализуется ежесекундно в сотнях аэропортов России.
Мне могут возразить. Есть же ФАПы, Должностная инструкция, в конце концов!
Говорить о документах с требованиями к подготовке, квалификации и, главное, деятельности РП можно лишь с большой долей иронии. Существующий ФАП «парашютистов» путается в понятиях и в одном месте декларирует «организацию и контроль работы смены» в другом «организацию контроля» но, во всех случаях, абсолютно далёк от детализации этих понятий. Должностная инструкция тоже не даёт ответов на возникающие в процессе работы смены вопросы. Так, например, законодатель требует от РП «находиться на том рабочем месте, где складывается наиболее сложная обстановка». По каким критериям определяется сложность? По интенсивности? Не факт. Может быть по квалификации диспетчера? Тоже вопрос, как говорится, «интересный». И главный вопрос: зачем ему там быть? Вмешиваться в УВД и мешать своими подсказками? Понятно, что и сами понятия «простая воздушная обстановка», «сложная воздушная обстановка» абсолютно субъективны. В другом случае от РП требуется принять «все необходимые меры» для помощи диспетчеру. Какие это меры? Где юридическое обоснование, которое дало бы право РП вмешиваться в действия диспетчера? Что на практике означает понятие «постоянный контроль работы смены»? Параметры контроля не устанавливаются. И как быть, когда РП отвлекается на вопросы координации и взаимодействия? Что подразумевает законодатель под «качественной организацией» и где критерии этого «качества»?
Отвечая на вечный вопрос «что делать?» — предлагаю исходить из базовых определений.
Определение безопасности полётов в авиации известно каждому специалисту.
«Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации (далее — безопасность полетов) представляет собой состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников опасности и контроля факторов риска».
Исходя из определения и непреложной истины, что РП является главным лицом, отвечающим за безопасность полётов основным постулатом, при описании его деятельности, должно быть следующее определение:
«Основная задача РП — обеспечение безопасности полётов в процессе работы смены, т.е. непрерывное выявление источников опасности и контроль факторов риска, выбор методов и решение возникающих ситуаций, при котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу не превышает приемлемого уровня».
Дело за малым. Определить основные источники опасности , поддающиеся реальному контролю.
Напомню, что «Контроль — процесс, обеспечивающий достижение системой поставленных целей и состоящий из трех основных элементов:
— установление стандартов деятельности системы, подлежащих проверке;
— измерение достигнутых результатов с ожидаемыми результатами;
— корректировка управленческих процессов, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов».
Может ли РП контролировать деятельность смены диспетчеров? И что имеет ввиду законодатель, когда говорит о «постоянном контроле за работой смены»? Как известно в крупных центрах количество рабочих мест, и, соответственно, количество специалистов, подлежащих «неусыпному» контролю, вполне весомая цифра. Каждый из диспетчеров абсолютно индивидуален и имеет присущий только ему почерк работы. Кроме того диспетчеры имеют различный опыт работы и профессиональную подготовку. (Кстати, классность и стаж не всегда являются исчерпывающим показателем профессионализма). Выбор метода регулирования, очерёдности заходов на посадку, вылетов, т.е. выбор метода обеспечения безопасных интервалов полностью ложится на диспетчера. Только он, путём предварительного анализа воздушной обстановки, в зависимости от интенсивности воздушного движения, наличия (отсутствия) ограничений и других факторов, влияющих на потоки вылетающих, прилетающих, следующих транзитом , выстраивает ментальную «картинку» предполагаемой обстановки и план будущих действий. Затем при выходе воздушных судов на связь реализует свой предварительный план в форме выдачи указаний, с необходимой коррекцией с учётом их фактического расположения. Бывают случаи, когда весь предварительный план подвергается полной отмене или существенной корректировке из-за появления «вводных», «нештатных ситуаций» и т.д. Всё это индивидуальная творческая работа конкретного специалиста и каким-то образом вмешиваться в эту деятельность, ломать предварительный план и навязывать своё решение – недопустимо. Но законодатель требует: «организовать и осуществлять постоянный контроль за работой подчиненной диспетчерской смены». (ФАП 216). Что же имеется ввиду? Необходимо четко понимать, что контроль деятельности диспетчерской смены предполагает контроль потоков информации о движении воздушных судов, включающих позывные, номера рейсов, направления движения, текущие и заданные высоты, отданные и полученные команды, прогнозируемые ПКС и многое другое по многочисленным линиям «диспетчер-пилот». А также потоков информации по линиям взаимодействия и согласования «диспетчер-диспетчер», реакции на изменения, поступающих из различных источников (дисплей, АИУ и т.д.), информации от многочисленных абонентов.
РП вменяется в обязанность субъективное или объективное (при помощи вспомогательных средств) выявление отклонений в этих информационных потоках и адекватная реакция на эти отклонения в виде корректирующих указаний. Помимо этого он должен контролировать радиообмен десятка специалистов, использующих наушники, часть которого осуществляется на английском авиационном языке, учитывая то, что во многих центрах предусмотрена работа за пультом двух специалистов – диспетчер РЛК и ПК. Непрерывный контроль таких потоков информации — задача нереальная для человека. За час через секторы крупных центров проходят десятки, а то и сотни бортов. При интенсивности 30-40 ВС в час только на одном секторе скорость потока информации возрастает настолько, что даже выявление ошибки не позволит её своевременно парировать. Кроме того, РП постоянно отвлекается на вопросы взаимодействия и координации и физически не в состоянии заниматься вопросами контроля работы диспетчерских пунктов.
Итак, можно сделать очень важный вывод и, наконец, признать:
РП не может предсказать и предотвратить ошибку диспетчера. Невозможно предсказать какое решение будет реализовано диспетчером через секунду, минуту. Ошибочно это решение или нет. Задача РП, в случае обнаружения , свести к минимуму последствия этой ошибки и не допустить катастрофического развития события. Поэтому понятие «контроля» и «организации» работы смены должны быть детализированы и абсолютно понятны в своей трактовке. Настало время правильно оценить возможности человека и на законодательном уровне определить границы ответственности РП.
Что должен, а главное, какие параметры может контролировать РП? Как согласуется его деятельность с определением безопасности полётов и необходимости в процессе работы заниматься «непрерывным процессом выявления источников опасности и контролем факторов риска». Что это за «источники и факторы»?
Первым источником опасности (контролируемым параметром) является воздушное движение.
Контроль параметров движения является первостепенной задачей РП.
Стандартом является нормативная пропускная способность диспетчерского пункта. Инструментом – план полёта или информация на дисплее с заданной пропускной способностью и планируемой интенсивностью.
Известно, что для того, чтобы допустить опасное сближение необходимо только два самолёта. Вспоминая страшные трагедии над Анапой, Боденским озером можно убедиться в том, что интенсивного движения там не было. В Омске, при посадке Ту-154 на занятую полосу, этот самолёт был единственным, которому необходимо было обеспечить безопасное ОВД. Поэтому аксиомой является высказывание, что «любое движение воздушных судов в границах ответственности диспетчеров является источником опасности». Низкая нагрузка способна вывести диспетчера из «рабочего состояния» и также опасна, как и работа в условиях высокой интенсивности.
«Авиадиспетчеры и специалисты по обслуживанию полетов совершают ошибки по тем же причинам, что и все другие сотрудники, а именно по причине отсутствия необходимых навыков, недостатка информации, недопонимания, усталости, недостаточной мотивации и т. д. К счастью, большинство таких ошибок своевременно определяется и устраняется, прежде чем создастся опасная ситуация. В самом деле, если учесть то огромное количество вылетов, которое ежегодно выполняется во всем мире, то частота серьезных инцидентов и авиационных происшествий по причине ошибок при обслуживании воздушного движения очень незначительна. Система УВД включает несколько встроенных эшелонов защиты от ошибок человека или технических сбоев, таких как неправильное донесение о местонахождении, маршруты в одном направлении, стандартные крейсерские высоты полета и повторение команд. Тем не менее, в результате проведенных анализов выяснилось, что большинство ошибок УВД совершается в следующих условиях:
• в условиях небольшой или умеренной сложности и интенсивности движения;
• в первые 15 мин нахождения авиадиспетчера на рабочем месте;
• если у авиадиспетчера менее шести лет опыта работы». Doc 9806 AN/763
Есть и другая крайность. Человеческие возможности имеют границы и долго работать на их пределе, «на грани» — человек не может. Примером тому служит катастрофа над Днепродзержинском, когда у диспетчера имевшего трехмесячный опыт самостоятельной работы на связи одновременно находилось 20 ВС, а в секторе наблюдалась мощная грозовая деятельность, влиявшая на качество радиосвязи.
Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется вопросам предельной допустимой нагрузки на диспетчерские пункты. Вопрос очень серьёзный, требующий комплексного подхода.
При условии, что нагрузка на диспетчера зависит от плотности воздушного движения, измерению подлежит пропускная способность диспетчерского пункта. Таким образом, нагрузка зависит от максимального количества воздушных судов, которые могут быть обслужены в единицу времени. Если установить такие максимальные значения для каждого диспетчерского пункта и взять их за основу или стандарт, то становится понятным в какой момент времени необходимо принимать управленческое решение. Как только прогнозируемое движение превышает значение предельной пропускной способности, необходимо вводить дополнительное рабочее место, которое должно быть предусмотрено на этот случай, или переходить на другую конфигурацию секторизации.
В случае с малой интенсивностью задачей РП является мониторинг воздушного движения и выявления источников опасности, связанных с этим параметром.
Особого внимания заслуживают нестандартные ситуации. Как пример можно использовать изменения в плане полетов, связанные с направлением ВС на запасной аэродром, когда к потоку рейсовых ВС присоединяется дополнительный поток с малым остатком топлива. Задача смены обеспечить посадку всех ВС на аэродроме. А задача РП – создать условия для выхода из сбойной ситуации. В некоторых случаях, исходя из собственного опыта, необходимо ограничивать выпуск ВС с аэродрома и использовать ВПП только на прием.
Вторым источником опасности(контролируемым параметром) , который можно измерить с точностью до секунды, является время нахождения на рабочем месте. Фактор риска: «переработка» диспетчера, или работа без подмены в течение периода времени, когда эта подмена была необходима. Критериями времени непрерывной работы являются: интенсивность полётов и загруженность диспетчера, сложность зоны и наличие ограничений, другие факторы местного значения. Последствия: незапланированный «выход диспетчера из строя», неадекватная реакция диспетчера на воздушную обстановку, «безрассудные команды» и т.д.
Регулируется: «Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации, утверждённого приказом Минтранса России от 30 января 2004 г. № 10.»
« Диспетчеру, осуществляющему непосредственное управление воздушным движением за диспетчерским пультом, оборудованным видео дисплейным терминалом, после двух часов непрерывной работы предоставляется специальный перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Кроме того, при интенсивности воздушного движения более допустимой, определяемой в установленном порядке, диспетчеру УВД после каждого часа работы предоставляется дополнительный специальный перерыв продолжительностью 10 минут. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется.» (п.11. приказа №10 МТРФ)
Третьим источником опасности является:
Численность и подготовка диспетчерского состава смены, личные качества диспетчеров и самого РП.
Факторы риска:
— Работа неполным составом смены и как следствие невозможность подмены на рабочих местах, переработка и факторы усталости;
— Работа с «лишними» диспетчерами и как следствие – скука, расслабленность;
— Наличие «молодых» диспетчеров;
— Наличие «ветеранов» не выдерживающих полной нагрузки;
— Нездоровый психологический климат в смене. Отсутствие нацеленности на выполнение поставленной задачи. Несовпадение формального и неформального лидерства.
— Конфликты.
— Отсутствие взаимного контроля.
— Некомпетентность и низкий уровень подготовки личного состава, РП;
— Нездоровый психологический климат в смене. Отсутствие нацеленности на выполнение поставленной задачи. Несовпадение формального и неформального лидерства.
— Оставление рабочего места диспетчером, отвлечение от работы вопросами не связанными с УВД.
— допуск к УВД диспетчеров не подготовленных к самостоятельной работе;
— Приём и сдача дежурства без необходимой информации о движении, ограничениях, согласованиях и т.д.;
РП обязан быть лидером и в связи с этим есть очень интересные высказывания, взятые из документов ИКАО:
«Лидер — это человек, чьи идеи и действия оказывают влияния на мысли и поведение окружающих.
Используя личный пример и силу убеждения, а также опираясь на понимание целей и устремлений группы людей, лидер становится средством оказания на них влияния и корректировки их поведения. Важно установить разницу между лидерством, которое человек завоевывает сам, и властью, которой его наделяют. Оптимальным вариантом является их естественное сочетание. Лидерство предполагает умение работать в коллективе, а качества лидера зависят от его умения строить взаимоотношения в коллективе». ICAO Doc 9683
«Существует опасность, что чрезмерно усердный руководитель перестарается и превратится в педанта и придиру. Бывает даже худшая ситуация, когда РП настолько стремится продемонстрировать свои качества перед начальством, что общее качество работы снижается. Эти типы руководителей зачастую пользуются руководствами, инструкциями следуя их букве до конца и забывая старую мудрость, что «Глупые люди выполняют правила, а умные – истолковывают их в зависимости от конкретной ситуации».
Следовать правилам необходимо, но иногда это приводит к созданию опасной ситуации. Эти руководители не могут быть лидерами на своей работе: первые из-за своей дотошности и придирчивости, которая раздражает и утомляет, вторые – потому, что ставят себя над сотрудниками и профессией».
Четвертым источником опасности является:
Намеренная и непреднамеренная ошибка (ошибки) со стороны диспетчерского состава. В качестве инструмента для измерений может выступать индикатор воздушной обстановки (ИВО) с отображением прогнозируемых или реальных ПКС.
Примечание: В этом случае речь идёт о последствиях ошибки, которая выражается в появлении предупреждений на ИВО.
Последствия: От нарушения интервалов и опасных сближений до столкновения ВС в воздухе и на земле.
Своевременная реакция РП на ошибки диспетчерского состава определяется многими параметрами:
— Количеством рабочих мест;
— Подготовленностью личного состава (профподготовка, опыт работы, количество допусков и т.д.);
— Конфигурацией рабочих мест и особенностью ведения р/связи (наушники, голос);
— Сложностью зоны;
— Наличием средств контроля (монитор, радиостанция и т.д.);
— Загруженностью РП вопросами координации и взаимодействия и т.д.
Отечественных документов по контролю факторов угроз и ошибок в настоящее время не разработано. Есть вполне рабочий документ ИКАО.
Пятым источником опасности является внешняя среда:
Факторы риска, связанные с внешней средой:
— Опасные метеоявления в границах зон ответственности и на аэродроме. Особое внимание необходимо уделять грозовой деятельности и согласованию маршрутов обхода, закрытию коридоров, ухудшение условий торможения на ВПП с учётом боковой составляющей ветра, ухудшению минимумов аэродрома до минимальных значений и организация заходов по минимумам I, II, III категории ИКАО и т.д.;
— Вводимые ограничения (запреты, режимы);
— Смена ВПП или основного направления ВПП (переход на другой курс), изменение режима использования полос;
— Использование нестандартных процедур выпуска и приёма ВС;
— Обеспечение литерных рейсов;
— Использование зон ожидания;
— Работы на ЛП, перронах, нерабочих ВПП, связанных с пересечением основной ВПП;
— Уход на второй круг, при наличии ИВД превышающей норматив;
— Отказ наземного РТО, СТО;
— Особые случаи в полёте;
Шестым источником опасности являются:
Местные особенности выполнения полётов и связанные с этим факторы риска:
— Расположение аэродрома (горный а/д (Сочи), равнинный, наличие водной поверхности, постоянных приземных туманов, овраги перед ВПП (Смоленск) и т.д.);
— Количество и расположение ВПП (параллельные с расстоянием менее 1 км, пересекающиеся);
— Состав оборудования аэродрома (наличие или отсутствие ILS, систем захода на посадку, РЛОЛП, ССО и т.д.)
Седьмой источник опасности: Взаимодействие
Недостатки во взаимодействии в авиации приводят к фатальным ошибкам, рассогласованию деятельности коллектива, служб обеспечивающих полёты и значительно повышает риск несогласованных действий и как результат ошибок в принятии решений.
Взаимодействие – обмен информацией или информационное воздействие субъектов друг на друга с целью достижения определённых результатов.
Взаимодействие – взаимное, совместное действие. Совместные действия могут быть организованными и эффективными (содействие), а также несогласованными и крайне неэффективными (вплоть до противодействия). Существует также понятие бездействия. РП приходится работать как в условиях СО-действия, так и в условиях БЕЗ-действия и даже ПРОТИВО-действия. Не во всех случаях субъекты могут договориться о приемлемых результатах. Во многих случаях необходимо искать компромисс. Как правило, это выбор между безопасностью полётов и прибылью АК. Задача РП организовать эффективное взаимодействие.
РП взаимодействует:
— Личный состав смены, включая оперативный состав БЭРТОС, смежные ДП (РЦ, АДЦ, АДП), для РЦ – смежные зоны;
— Группа планирования;
— Экипажи воздушных судов (непосредственно и через ДП);
— Службы аэропорта (Главный оператор аэропорта, аэродромная, ЭСТОП, Метео, ССТ, СПАСОП (АСК), Медицина, Полиция и т.д.);
— МЧС в случае организации работ по поиску и спасению;
— ФСБ, ФСО и др., при обеспечении литерных и подконтрольных рейсов;
— Руководящий состав различных уровней;
Конфликты взаимодействия
Основным вопросом взаимодействия является конфликт интересов. Авиакомпании стремятся «летать» при любых условиях. Служба движения стоит на страже «безопасности полетов».
Основные условия эффективного взаимодействия в смене:
— Нормативно-правовая база;
— Авторитет. РП является формальным и неформальным лидером, способным к прогнозированию различных ситуаций и умеющим принимать решения;
— Нормальный психологический климат. Личный состав подготовлен и способен решать задачи ОВД в обстановке отработанного взаимодействия. Взаимная помощь и взаимный контроль.
— Чётко и корректно поставленные задачи и обозначенные пути их решения. Отсутствие ситуаций, требующих «героических» усилий.
Условия эффективного взаимодействия с представителями служб аэропорта и представителями других ведомств
Нормативно правовая база:
— Инструкции по взаимодействию, приказы, указания. В НПД должны быть оговорены границы зон ответственности, права и обязанности сторон;
— Наличие общей цели: обеспечение безопасности, регулярности и экономичности полётов;
— Информация о вопросах, требующих согласования
Восьмой источник опасности:
Нечетко прописанные процедуры, разночтения в документах. Необходимо очень тщательно анализировать существующие и вновь предлагаемые документы и указания.
Подводя итог можно определить, что контроль деятельности смены предполагает
постоянный мониторинг рабочей обстановки и выявление источников опасности связанных с:
— контролем ИВД и открытием дополнительных ДП, предусмотренных ИПП,
— контролем выполнения плана полётов, выявлением изменений в плане, которые могут привести к перегрузке на конкретном рабочем месте или объекте в целом;
— контролем вводимых ограничений и изменением порядка использования ВП, с привлечением дополнительных специалистов и с целью снижения нагрузки на объект в целом. Наличие литерных и подконтрольных рейсов.
— контролем времени, проведённого за каналом и своевременная подмена диспетчера,
— контролем наличия работоспособного диспетчерского состава на рабочих местах;
— обнаружением явных угроз и ошибок диспетчерского состава (появление предупреждений о прогнозировании ПКС, КС, нарушений дисциплины и т.д.);
— изменением метеоусловий, вводом ограничений, отказами РТО, особыми случаями в полёте и т.д.;
— контролем работоспособности оборудования ЭРТОС, ЭСТОП.
— выявлением отклонений в вопросах взаимодействие и координации;
Результатом деятельности должна быть адекватная реакция РП на обнаруженные факторы риска (отклонения), принятие адекватных решений и выдача корректирующих указаний для снижения риска до приемлемого уровня, исправления выявленных отклонений;
Организация работы смены предполагает:
«Организация работы диспетчерской смены это эффективная деятельность, направленная на обеспечение работы диспетчерских пунктов в соответствии с действующими НПД и направленная на решение конкретных задач по обслуживанию воздушного движения в зоне ответственности диспетчерских пунктов в период работы смены».
Реализуется путём:
— Определения конфигурации рабочих мест в зависимости от наличия диспетчерского состава, интенсивности ВД, режима использования ВПП, действующих ограничений, регламента и т.д.
— Распределения личного состава по рабочим местам и обеспечение подмены в зависимости от ИВД;
— Обоснованного открытия (закрытие) ДП;
— Информирования всех участников процесса о запланированных или внезапных изменениях воздушной обстановки и предполагаемых решениях возникающих задач.
— Директивных указаний, направленных на решение возникающих задач и контролем их выполнения.
Необходимо помнить, что в процессе деятельности РП сталкивается с нестандартными ситуациями, которые выходят за рамки действующих нормативно правовых документов.
Все зависит от способностей руководителя рисковать и принимать решения. Не секрет, что в некоторых случаях РП пытается выполнить «букву закона» в ущерб безопасности. Действовать с точки зрения здравого смысла не позволяют действующие документы и существующие традиции. Напомню, что в мировом сообществе несколько иной взгляд на эти процессы.
«Одной из уникальных способностей человека является умение мыслить. Оно позволяет анализировать данные из разных источников в свете образования или предшествующего опыта и делать соответствующие выводы. Здравый смысл имеет жизненно важное значение для безопасности полетов. Перед тем, как отреагировать на какой-либо раздражитель, человек должен обдумать его. Обычно верная оценка и правильное решение являются следствием профессиональной подготовки, опыта и правильного восприятия. Однако рассудительность в существенной степени подвержена воздействию психологического давления (или стресса), и зависит от таких черт характера, как личные качества человека, его душевное состояние, честолюбие и темперамент».
ICAO Dос 9422-АN/923
И ещё несколько важных мыслей, описанных в документах ИКАО:
«РП эффективен, когда:
— умеет совмещать смелость и решительность с осторожностью, узко практические интересы смены с большими общественно значимыми целями;
— гибко выбирает нужную линию поведения, умело сочетая разные стили руководства, в зависимости от конкретной обстановки, успешно взаимодействует как с вышестоящим руководством, так и с подчиненными, и с равными по рангу;
— обладает чувством целесообразности и меры (смелость, но не авантюризм, принципиальность, но не фанатизм, исполнительность, но не отсутствие самостоятельности и т. д.);
— быстро преодолевает возникшие противоречия в производственном процессе, гибко перестраивая план действий в соответствии с изменившимися условиями, прогнозируя развитие дальнейших событий.
Такое умение удовлетворять противоречивым требованиям производства, совмещать «несовместимое» и характеризует его общую способность к управленческой деятельности, и зависит не столько от наличия определенного набора отдельных качеств, сколько от специфики регулятивных характеристик, определяющих особенности его психологического склада»
Подведем некоторые итоги. В этой статье я попытался описать направления работы руководителя полётов – специалиста несущего всю полноту ответственности за результаты работы подчиненного коллектива. Напомню, что в настоящее время нет достаточно внятного документа, который описывал бы эту деятельность. Перечислено восемь основных блоков, каждый из которых включает множество направлений деятельности. За каждым дефисом подразумевается некое активное действие. Приведены в пример источники опасности и факторы риска, т.е. те контролируемые параметры, которые непосредственно влияют на работу РП и обеспечение безопасности полетов в процессе работы смены. Детализированы основополагающие понятия «контроль работы смены», «организация работы смены».
Считаю, что такой подход к описанию деятельности РП полностью соответствует требованиям Постановления правительства от 18 ноября 2014 г. № 1215 «О порядке разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими» и «Заявления о политике ФГУП Госкорпорации по ОрВД в области обеспечения безопасности полётов при АНО». В частности в Заявлении говориться: «Ввести управление рисками в повседневную рабочую практику для своевременного выявления опасных факторов, снижения рисков, связанных с этими факторами до наименьшего практически возможного уровня».
Понятно, что это только начало дискуссии. Вопросов, на которые пока нет ответа на законодательном уровне, много. Наступила пора давать на них ответы.
комментарии (227):
|
Полная или частичная публикация материалов сайта возможна только с письменного разрешения редакции Aviation EXplorer.
 |
Новости |
-
Аэропорт Ижевск открыли для выполнения международных полетов
-
Самолет Flydubai в Катманду столкнулся с птицей
-
Над Внуково временно закрывали воздушную зону из-за информации о беспилотнике
-
Эксперты озвучили главные условия внедрения беспилотников в единое воздушное пространство
-
Омские таможенники пресекли незаконный вывоз в Казахстан легкомоторного самолета
-
Казахстан и Южная Корея договорились о совместном развитии туризма
-
В Ивановской области на День Победы ввели ограничения на полеты беспилотников
-
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
-
Россия и Китай обменялись образцами лунного реголита
-
На космодроме Восточный продолжается строительство объектов второй очереди
-
На Балтийском флоте начались плановые летно-тактические учения с вертолетным полком морской авиации
-
Аэропорт Сургута в 2022 году увеличил выручку на треть
-
Авиакомпания S7 Airlines создала креативную ливрею для самолета
-
Аэропорт Пулково и петербургская индустрия гостеприимства готовятся к приему китайских туристов
-
Аэропорт Бегишево проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны
-
Крупные иностранные авиаперевозчики CargoLux и Turkish Airlines Cargo планируют сотрудничество с аэропортом Астаны
-
Аэропорт Домодедово разработал симулятор для практической подготовки менеджеров
-
Прямые пассажирские авиарейсы между городом Чунцин и Тайванем возобновятся в мае этого года
-
Китай запустит миссию «Тяньвэнь-2» для исследования небольшого околоземного астероида
-
Выход космонавтов Роскосмоса в открытый космос перенесли на начало мая
-
Аэропорт Самарканда обсуждает открытие рейсов с европейскими авиакомпаниями
-
«Аэрофлот увеличивает частоту полетов в Казань в летние месяцы
-
Из аэропорта Кольцово увеличивается количество рейсов в Махачкалу
-
Летчики армейской авиации объединения ВВС и ПВО Западного военного округа учились уничтожать командные пункты и технику противника
-
Экипажи военно-транспортной авиации ЗВО выполнили полеты в сложных метеорологических условиях
-
В «Роскосмосе» допустили участие России и Китая в совместных пилотируемых программах
-
В МЧС заявили о планах вычислять нарушителей противопожарного режима с помощью дронов
-
Около 70 самолетов не смогли приземлиться в берлинском аэропорту из-за забастовки
-
Аэропорт «Кольцово» в 2022 году увеличил чистую прибыль более чем на треть
-
Подрядчик начал работы в рамках реконструкции аэропорта Братска
-
Киргизская авиакомпания Aero Nomad Airlines намерена 22 мая запустить рейс Ош — Красноярск
-
ТАНТК не планирует дивиденды за 2022 год из-за отсутствия чистой прибыли
-
Гоночная компания NASCAR поможет создать лунный вездеход для NASA
-
Авиакомпания NordStar предлагает специальные молодежные тарифы на ряде направлений
-
Калининградский аэропорт «Храброво» в первом квартале увеличил пассажиропоток на 10%
-
Авиакомпания Qazaq Air увеличит частоту полетов между Астаной и Туркестаном
-
Аэропорт Иркутска в 2022 году увеличил чистую прибыль на 4%
-
В Индии задумали превратить аэропорт Дели в узловой хаб
Архив:
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
















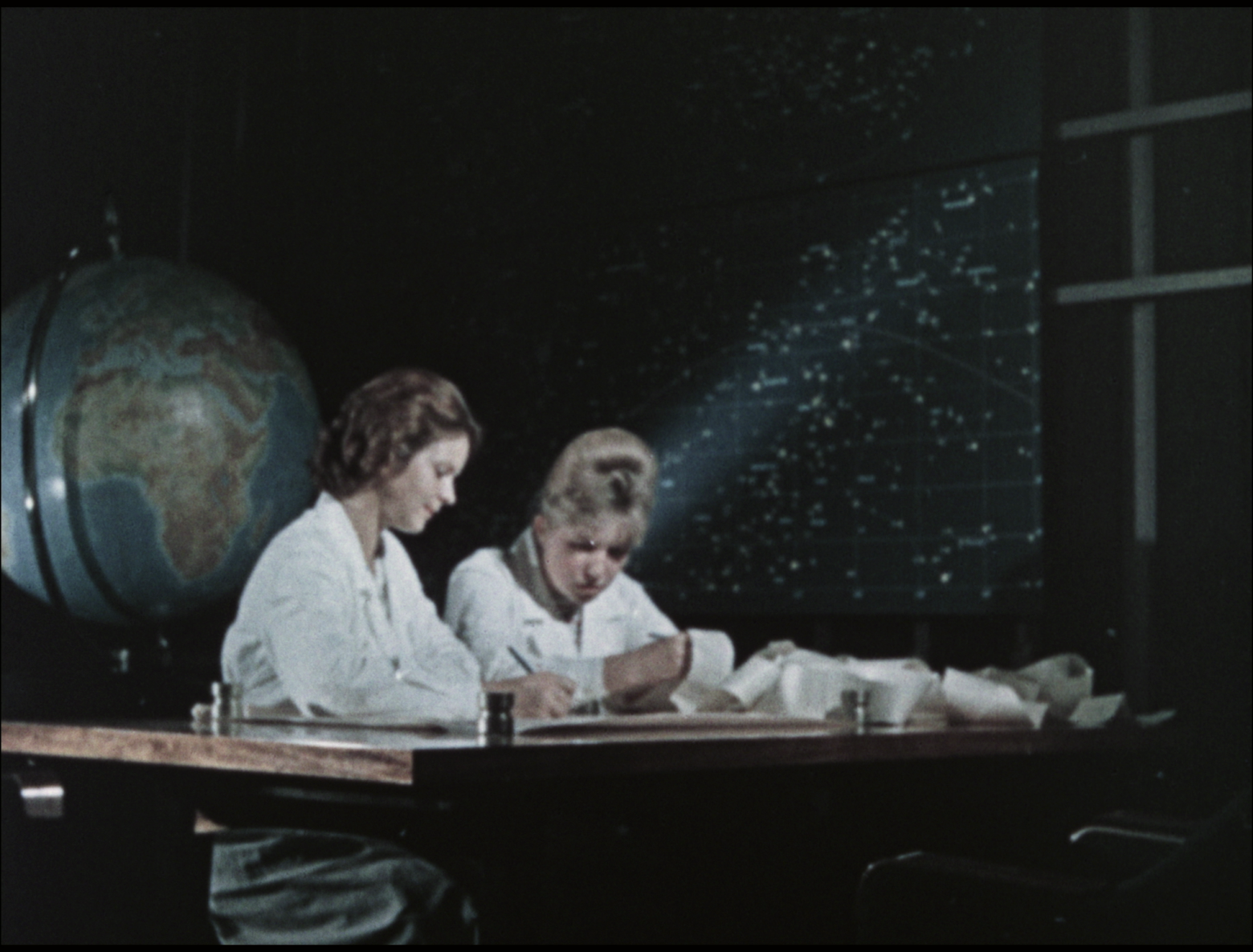
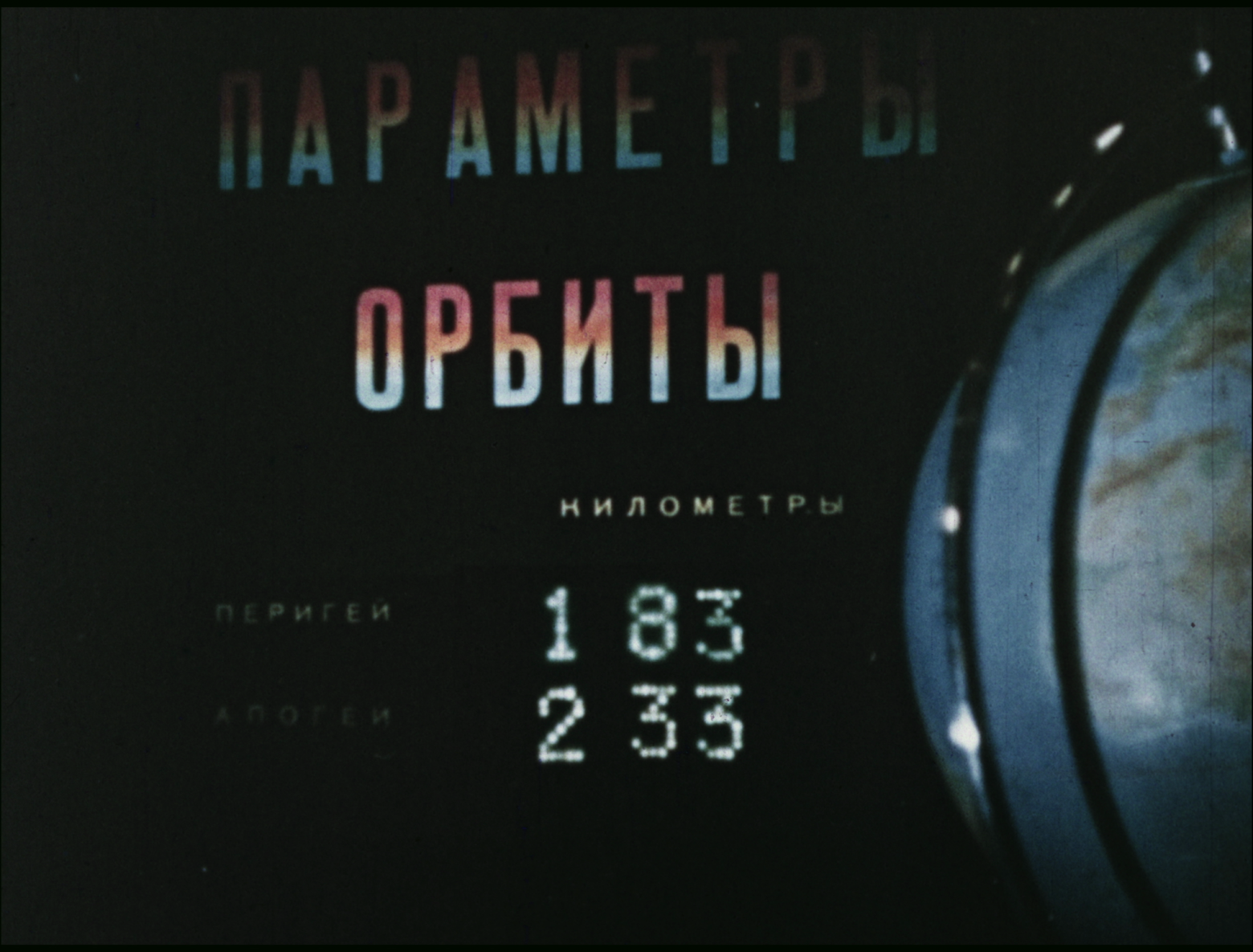




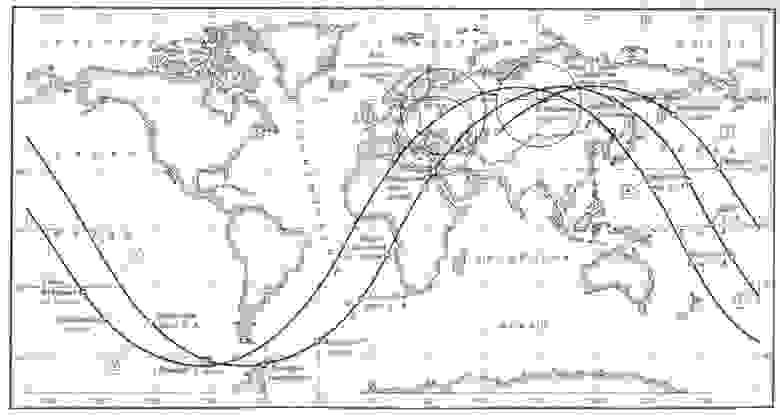







 На мой взгляд самое точное – это либо «старший диспетчер», либо «руководитель (или начальник) смены».
На мой взгляд самое точное – это либо «старший диспетчер», либо «руководитель (или начальник) смены».