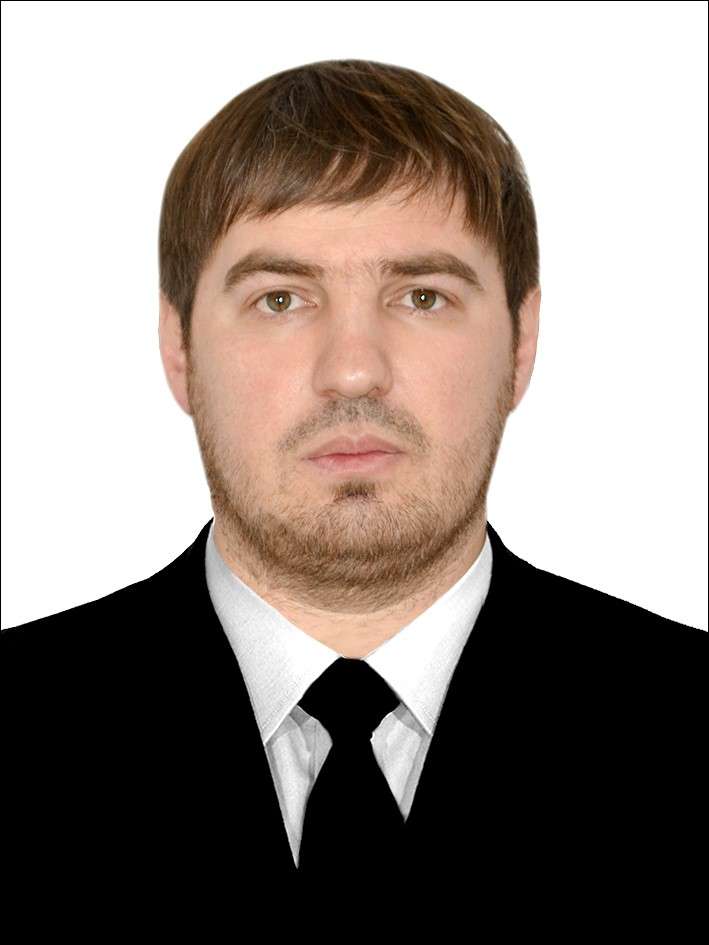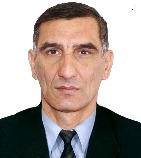Региональный политический совет
Руководитель — главный эксперт
Председатель Городского совета г. Назрань.
Депутат
Депутат Народного Собрания Республики Ингушетия, заместитель председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по аграрной политике и природопользованию
Заместитель Секретаря Регионального отделения Партии по проектной деятельности,депутат Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, член комитета по образованию, культуре и информационной политике
Секретарь МО Партии в г. Малгобек
Глава Республики Ингушетия
директор
Глава Джейрахского муниципального района
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городском Совете депутатов Муниципального образования «городской округ Магас», Председатель Городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Магас»
заместитель руководителя
И.О. Секретаря Местного отделения Партии в Назрановском районе
Руководитель Регионального исполнительного комитета
Депутат Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва от ВПП «Единая Россия».
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Секретарь Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , Председатель Народного Собрании Республики Ингушетия
Член Президиума Регионального политического совета Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
депутат Народного Собрания РИ
Заместитель Секретаря ИРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ по агитационно-пропагандистской работе», депутат Народного Собрания РИ,
Подписка на новости
Дайджест новостей без спама и рекламы
Последние новости
Не мог пройти мимо и не высказаться о вопиющей ситуации, сложившейся после нашумевшей встречи известного богослова Хамзата Чумакова в Москве с вайнахской диаспорой.
Смотрел видеозапись встречи.
По мне так отличнейшее событие в жизни вайнахской диаспоры, рядом с которым не стоят мероприятия, организуемые, например, действующей официальной властью под девизом «Вот так и живите!» (дискотеки, концерты, флешмобы, конкурсы красоты, дэнс-пати, дед-мороз-шоу).
Безмерно рад и по-доброму завидую, что у московской молодёжи её получилось провести, в то время как в Ростове и в других городах провести пока не очень получается. В Санкт-Петербурге, как уже знаете, лекция была сорвана усилиями местных ингушских постпредовцев.
Для разъяснения ситуации со списками участников встречи, отправленных постпредством Ингушетии в Москве в Совбез РИ, я дистанционно связался со своим знакомым М., проработавшим некоторое время в данном органе власти и задал несколько вопросов, что вылилось в небольшое интервью о работе постпредства в целом, которое не поленюсь выложить.
Долго ты проработал в постпредстве Ингушетии в Москве?
М: Нельзя сказать что очень долго, но вполне достаточно, чтобы у меня сформировалась картина о том, чем занимается ингушское руководство и как решает проблемы Ингушетии. Я этот период считаю одним из самых неприятных в своей жизни. Напрасно потраченное время и нервы.
Чем занимается постпредство и кто там работает?
М: Постпредство — это такой орган, который призван выражать интересы Ингушетии на федеральном уровне в Москве. Оно не имеет полномочий контролировать граждан Ингушетии и не может никому диктовать, кто где что должен делать и куда ходить. Это же противоречит Конституции. Их обязанность — взаимодействовать с федеральными органами власти, помогать представителям ингушской диаспор в случае обращения к ним с различными проблемами, оказывать содействие в привлечении инвестиций в Ингушетию и т.п.
Но ничем этим близко не занимается и не занималось наше постпредство, в отличие от постпредств других субъектов России. А постпредство, возглавляемое уже несколько лет Вахой Евлоевым — это вообще караул! Ваха Евлоев — известный бывший спортсмен, за что я его безмерно уважаю, но как государственному управленцу ему можно поставить кол! Не двойку даже, а именно кол! Потому что постпредство так таковое по факту бездействует, занимается абсолютно ненужной работой либо решает вопросы выгодные для личных интересов сотрудников этого органа. Пустой пшик да и только.
О привлеченных в республику инвестициях я вообще молчу. Это даже не смешно.
Для иллюстрации расскажу занимательный случай из личного опыта. Была одна из немногих встреч с потенциальными инвесторами, состоялась она пару лет назад. Нам каким-то чудом удалось пригласить в постпредство несколько десятков (!) послов Арабских стран и Африки для презентации инвестиционного потенциала республики. И вот приехали эти крутые дипломаты, которые могли, в принципе, привлечь в Ингушетию крупные инвестиции, если бы их заинтересовали должным образом.
Но наш Глава презентовал «Ачалуки», предложил им эту минеральную воду закупать (а теперь представьте себе, как дорого и невыгодно далекой Африке тащить через весь мир наши «Ачалуки», как будто больше нету минеральной воды в мире, тем более «Ачалуки» не производятся в таких промышленных масштабах для заграничного экспорта), а также вложиться в постройку мечети в Магасе. Типа вы же мусульмане, давайте помогайте строить мечеть, это ваша обязанность, господа. В зале установилась глубокая тишина и через минуту посол Объединенных Арабских Эмиратов робко спросил: «А Вы знаете, что инвестициям нужна тишина, нужна безопасность? Как вы собираетесь её обеспечивать?». На что наш Глава угрожающе и твёрдо крикнул «Я гарантирую!», чем, наверное, собирался отбить всякое сомнение у присутствующих в правдивости своих слов и в силе своего могущества. Наверное, Глава посчитал этот вопрос оскорблением, и я тогда подумал, что вряд ли он, как профессиональный военный, знает, что безопасность инвестиций не обеспечивается личностью, пусть даже руководителем региона, для этого есть механизмы и институты, как, например, спокойная криминогенная обстановка, справедливая судебная система, сильная правоохранительная система, низкий уровень коррупции и т.д. Больше послы Арабских стран и Африки никогда не откликались на наши приглашения.
Было ещё несколько встреч с крупными потенциальными инвесторами, но уходили они немного шокированными и разводили руками. Было похоже, что они выслушали бредни и не получили гарантии и ответы на свои вопросы.
Зато постпредство успешно привлекло к себе массовое недовольство молодежи, проживающей в Москве и Московской области. Это вообще отдельная тема.
Ну а кто работает в постпредстве… Работают, в основном, родственники высоких ингушских чиновников. Например, первым заместителем постпреда работает племянник Главы Ингушетии Руслан Евкуров, есть родственники Чилиева Мусы, Вахи Евлоева, Евлоева Зелимхана (сноха Тамила — помощник Евлоева Вахи) и другие. Профессионализмом эти работники явно не страдают, скорее отсиживают свои кресла, так как никакого применения в реальной сфере или другую работу найти не могут, ведь в других местах нужны, в основном, специалисты. На данный момент постпредство играет роль больше хостела для неудачников-бездарей, чем органа, призванного отстаивать интересы Ингушетии. Есть конечно несколько хороших работников, как например, повар, но это, в основном, обеспечивающие специалисты.
Ты упомянул о недовольстве московской молодежи к постпредству, очень интересно, расскажи поподробнее.
М: Начну с того, что как раз за участок работы с молодежью в постпредстве отвечают люди явно некомпетентные, соответственно и работа складывается соответствующим образом.
В числе вышеобозначенных, например, бывший начальник социального отдела
Хасан Нальгиев, известный своими провокациями и считавшего себя серым кардиналом постпредства (был уволен за неподобающее поведение), это бессменная сотрудница отдела Луиза Котиева, девушка хамоватая, амбициозная и способная на многие вещи, это нынешний руководитель социального отдела Рустам Сейнароев, которому больше подходит, на мой взгляд, работа водителя Вахи Евлоева, чем начальника соцотдела.
Много всего было, даже не хочется вспоминать и рассказывать эти неприятные, местами подлые и не соответствующие ни ингушскому, ни мусульманскому этикету вещи, которые происходили и представлялись как работа с молодежью. В сухом остатке — молодежь и близко не хочет связываться с постпредством и его окружением. Когда я работал в постпредстве, многочисленные крайне негативные отзывы о нём, особенно от молодых людей, я воспринимал с обидой и отстаивал противоположную позицию, но сейчас со стороны я больше стал понимать многие вещи и вспоминая мне становится стыдно, что участвовал в этом спектакле идиотов.
А были какие-нибудь интересные моменты во время твоей работы в постпредстве?
Интересных… Ну не знаю, были и интересные моменты. Например, нельзя не пройти мимо самого руководителя постпредства Вахи Евлоева. У Вахи бессчисленное множество историй из своего богатого спортивного прошлого, о которых он только и рассказывает всегда. И на совещаниях, и на встречах с разными гостями, и на планерках. В общем всегда и везде.
Расскажу даже один случай. В северокавказских постпредствах поочередно иногда проходят встречи высокопоставленных чиновников Москвы, администрации президента России, руководителей постпредств, органов исполнительной власти Северного Кавказа и других чиновников. Так вот настала очередь ингушского постпредства. Приехало много гостей, в том числе министров и заместителей министров Правительства Москвы. Обсуждают важные нужные вещи и в середине дискуссии по проблеме межнациональной напряженности наш добродушный Ваха не выдержал и начал рассказывать истории как он с дагестанцем бегал с большой сумкой в аэропорту Шереметьево, а также смешной случай на соревнованиях в Японии. Конечно, все присутствующие были немного смущены и не понимали к чему и зачем было всё это сказано, но мне было весело, так как я на каждой подобной встрече вёл статистику и делал прогнозы, на каком моменте мероприятия Ваха возьмёт слово, расскажет какую-нибудь интересную историю и сведёт всю встречу к нулю. Ваха прекрасный человек, но явно не на своём месте.
А что думаешь по поводу встреч Хамзата Чумакова в Москве и других регионах?
М: Как я уже говорил, постпредство не смогло привлечь к позитивной общественной работе и оттолкнуло от себя активную думающую ингушскую молодежь Москвы и Московской области. Ребята открыто и неподдельно испытывают отвращение к нему и к его коллективу.
А на подобные хорошие события, как встреча Хамзата Чумакова, эта молодежь приходит массово, но таких мероприятий, к сожалению, очень мало, так как нет у ребят достаточных ресурсов организовать их своими силами, в то время как местные предприниматели слишком заняты своими делами, чтобы заниматься общественно-полезной работой.
И властей Ингушетии, само собой, невероятно бесит, что они не могут эту свободомыслящую, умную, прогрессивную, золотую молодежь привлечь на свою сторону. К тому же они не умеют и даже не представляют, как можно использовать её потенциал.
Много раз собирал эту молодежь в постпредстве и наша Глава, но никакого понятного и необходимого посыла озвучено ни разу не было, одна ругань и наезды. Подход очень неправильный и отрицательно-негативный. Хорошие ребята ерундой не занимаются и выслушивать постоянное необоснованное порицание, естественно, не хотят и правильно делают, что больше не откликаются на подобные бесполезные встречи и мероприятия.
Не идут ребята и на призывы руководителя ингушской национально-культурной автономии Гагиева Висингирея и руководителя общественной организации Салмана Наурбиева. Ну не умеют они привлекать к работе, заинтересовывать, помогать. Не умеют и не желают, гораздо легче говорить высокопарные вещи на камеру и публиковать фейковые новости на сайтах своих организаций о якобы мощной ежесекундной работе с молодежью.
Висингири Гагиев, например, относился к молодежи как к ресурсу для реализации собственных личных амбиций. Сначала оплошал будучи руководителем постпредства до Вахи Евлоева, а потом захотел совместно с депутатом Госдумы Беланом Хамчиевым сделать федеральную ингушскую национально-культурную автономию, но так и остановился на районном или городском уровне и не смог пойти дальше.
А молодежь ныне умная пошла, под знамена непонятных людей с непонятными целями, а зачастую даже откровенных проходимцев она уже просто так не пойдёт, что очень радует.
А конкретно по встрече с Хамзатом в Москве, то постпредство и до первой встречи весной прошлого года, и до второй в декабре этого года проводило совещания и пыталось придумать, как всё это воспретить, но благодаря Всевышнему эти козни ни к чему не привели.
Зато в качестве мести по указанию Вахи Евлоева и Главы сотрудники Луиза Котиева и Рустам Сейнароев сделали список из числа самых им ненавистных независимых молодых людей, которые являются отличниками и везде на хорошем счету и скинули в Совбез РИ (может быть и ещё куда-то), что оно всегда и делает, когда им чего-то не нравятся. На мой взгляд, это очень и очень подло. Ведь Совбез РИ и другие органы могут быть введены в заблуждение и неизвестно, как эти списки потом будут растолкованы и какие последствия для этих людей могут быть. Очень подло. И это не первый раз и даже скажу больше, что постпредство часто списки отправляют не только в Совбез РИ, но, насколько я знаю, и напрямую на Лубянку. Так что делайте выводы, какая работа с молодежью ими ведётся. Безопасность это хорошо, но безобидные позитивные действия хороших людей при неправильном истолковании через призму постпредства потом могут быть совсем непозитивно растолкованы дальше и получить негативные последствия.
И этот
доклад руководителя Совбеза РИ перед Главой об интересе мэрии Москвы к данному мероприятию является смешной и глупой попыткой выйти сухим из назревающего общественного скандала. К сожалению, очень часто наши политические деятели сначала громко сотрясают воздух, а потом начинают думать и выкручиваться, либо публично брать слова обратно и интерпретировать свои громкие заявления по-другому.
А почему ты ушёл из постпредства?
М: Потому что я получал высшее юридическое образование не для того, чтобы терять время и заниматься никому не нужными показушными вещами. Там совершенно отсутствует разделение прав и полномочий, отсутствуют чётко поставленные задачи, цели, стратегия работы. Работы так таковой нет, есть бесконечная, бессмысленная каша и возня.
Поэтому и ушёл и считаю, что правильно сделал. Нашёл другую хорошую работу в коммерческой фирме и после этого ужасного опыта чувствую себя просто великолепно.
Баркал за интервью.
Для московских ингушей всё, что я рассказал — не секрет. И ответил на ваши вопросы потому, что считаю нужным донести до всех, что это всё неправильно и некрасиво. Молчать и быть равнодушным — это не есть хорошо, если мы хотим развиваться и делать нашу республику и власть лучше.
В общем, картина
примерно ясна. Похожие отзывы о московском постпредстве я слышал в разное время и от других собеседников. Очень жаль, что госорган, призванный отстаивать интересы Ингушетии на федеральном уровне опустился до уровня клоаки. Очень жаль.
Что же касается ситуации с попыткой блокировать просветительскую деятельность Хамзата Чумакова, то, на мой взгляд, властям, в первую очередь, не нравится большая популярность в народе имама Насыр-Кортской мечети, рейтинг которого, возможно, недостижимо превышает рейтинг политиков официального Магаса. Наглядным примером служит также евротурне господина Евкурова и Хамзата Чумакова. Если приезд первого ознаменовался скандалами и превалирующим количеством отрицальных отзывов, то второго вайнахи встречали как
героя.
Бексултан Сейнароев
Не растворимся, не рассеемся
Бексултан Магомедович Сейнароев родился 20 мая 1938 года в Ингушетии. Он из тех, кого называют юристами от Бога. Начинал юрисконсультом, затем начальник юридического отдела, зам. гендиректора по экономическим и правовым вопросам Павлодарского алюминиевого комбината – этот гигант цветной метталлургии СССР, на котором он проработал свыше 15 лет, оставил глубокий след в его судьбе.
В 1989 году в Москве он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, стал первым среди чеченцев и ингушей доктором в этой области. Профессор, академик МАИ, Заслуженный юрист РФ; кавалер ордена «За заслуги», медалей «За доблестный труд», «За заслуги перед судебной системой РФ». Он взошёл на юридический Олимп, став судьей Высшего Арбитражного Суда России.
Но особо значимы его заслуги перед Ингушетией и Российской Федерацией на крутом переломном этапе ингушской истории восьмидесятых и девяностых годов. Северный Кавказ и Чечено-Ингушетия бурлили, как вулкан политических страстей, на волне которых надвигалась угроза дестабилизации на Кавказском направлении. 9-10 сентября 1989 года в условиях обостряющейся ситуации в городе Грозном во Дворце культуры им. Ленина был проведен Второй съезд ингушского народа с повесткой дня: «О социально-политическом положении ингушского народа».
Были приняты итоговые документы и резолюция Второго съезда ингушского народа из 16 пунктов, одним из которых было создание Оргкомитета по восстановлению Ингушской АССР.
Съезд избрал Оргкомитет в составе 31 человека. Это:
Абадиев Бек, Абадиева Хава, АкиевХасолт, Ахильгов Сейт-Салим, Базоркин Идрис, Беков Магомед, Богатырев Бембулат, Боков Федор, Героев Юсуп, Гудиев Абукар, Кобышева Надежда, Кодзоев Иса Альбадурович, Кодзоев Иса-Аюбович, Костоев Беслан, Котиков Беслан, Куштов Ахмет, Куштов Джабраил, Куштов Якуб, Мамилов Суламбек, Медов Якуб, Нашхоев Мурад, Парчиева Пара, Плиев Магомед-Рашид, Пошев Ахмед, Сейнароев Бексултан, Тимурзиев Башир, Хамчиев Султан, Цечоев Мовлади, Чахкиев Башир, Чахкиев Саид, Яндиев Муса.
Присмотревшись к вновь избранному составу, организаторы съезда пришли к выводу, что возглавить Оргкомитет должен подготовленный человек, обладающий юридическими знаниями и жизненным опытом, способный отстаивать интересы своего народа. Выбор пал на члена Оргкомитета, народного судью Ленинского района Грозного, доктора юридических наук Б. М. Сейнароева, который был избран единогласно 2 января 1990 года. Хотя тогда он со свойственной ему честностью и прямотой предупреждал: « Меня можете не выбирать. Я – человек производства, анархии не потерплю».
1989-1992 годах он председатель Оргкомитета по образованию Ингушской Республики. Национального движения, которое привело 4 июня 1992 года к историческому для ингушей событию – образованию Ингушской Республики в составе РФ в полном соответствии с волеизъявлением ингушского народа на референдуме 1991 года. Участвовал в разработке проектов законов РФ «О реабилитации репресированных народов», «Об образовании Ингушской Республики».
Несмотря на противодействие руководства Северной Осетии, парламента Чеченской Республики Ичкерия того времени, при сжигаемых на избирательных участках урнах,попытках вооружённых экстремистских групп в самой Ингушетии сорвать референдум по вопросу образования Ингушской Республики, Народный Совет обеспечил его проведение, невзирая ни на что!
На основе результатов этого референдума Президент РФ Б.Н.Ельцин в порядке законодательной инициативы внёс в Парламент РФ предложение о создании Ингушской Республики в составе РФ.
Накануне 20-летия республики в издательстве « Весь мир» вышла книга Б. Сейнароева «На трудном пути создания Ингушской Республики». Книга об истории периода 89-92 годов и людях, которые эту историю делали.
Интересны воспоминания автора о его встречах с лидером Чечни того времени Джохаром Дудаевым, а также ранее не публиковавшиеся исторические факты, многие из которых прежде замалчивали. Например, о размежевании между ингушами и чеченцами, когда был использован такой инструмент исламсого мира, как свидетельство в Шариатском суде. Ответчик, отказавшийся от предложения истца прийти в Шариатский суд, считается отвратившимся от веры. Так вот, тогда… Но не будем разрушать интригу. Книгу лучше читать самим. Приведем лишь отрывок из первой главы, которая называется «Горсть родной земли» и посвящена трагическим событиям 1944 года.
«…Никто не мог сказать точную причину обрушившегося на наш народ бедствия и несчастья. Этим, похоже, никто тогда и не был особенно озабочен… Нас, маленьких детей, на первых порах поили водой, разбавленной щепоткой родной земли Ингушетии, взятой с собой в неведомый путь родителями как талисман и как целебное средство от всех чужеземных болезней. Щепотку этой земли сыпали на саван погребаемому в чужом краю, как символ вечной связи с далекой, близкой сердцу Родиной – Ингушетией, вечными кавказскими горами, живительными родниками».
Мы задали этому человеку, одному из творцов ингушской государственности, несколько коротких вопросов.
– Какое событие вашей жизни считаете самым главным, неперечеркиваемым, чем гордитесь?
– Тем, что мы, ингуши добились создания своей государстенности. Благодарен Всевышнему – Аллаху, по воле которого возникла наша государственность, а это гарантия сохранения и развития языка, культуры, и в конечном счете, сохранения нации.
– У Вас сложный характер?
– Мой характер – не сахар. Я не любил что-либо обещать легко, выступать для публики. Пытавшихся на меня повлиять, выслушивал, но поступал так, как считал нужным с позиции интересов народа, помня о своей ответственности перед ним.
– Что бы вы сказали своим недоброжелателям?
– Поднимите руки те, у кого они чище в национальном вопросе?
– Что вы пожелаете своей малой родине, которй сегодня – 20?
– Чтобы республику возглавил человек, способный убедить руководство России в необходимости осуществить права ингушского народа. Права, антиконституционно нарушенные тотальной депортацией народа в феврале 44-го года. Человек, у которого должно хватить патриотизма, совести, мудрости последовательно убеждать руководство РФ в обоснованности своих требований. Работа эта должна вестись в пределах полномочий постоянно, даже в момент ужина на берегу моря во время отпуска. И у этого руководителя должно быть понимание того, что в своей работе нужно опираться на общественные организации, которые работают во имя восстановления справедливости и добрососедства.
Хаматханов Дауд
Руководитель «Ингушского республиканского потребительского союза». Сын Красного партизана Гражданской войны, организовавшего в 1963 г. группу из 5 человек для поездки в Москву с требованием вернуть Пригородный район.
Родился в 1935 г. в с. Длинная долина Пригородного района г. Орджоникидзе Чечено-Ингушской АССР.
Окончил Казахский государственный сельхозинститут по специальности – инженер-гидротехник.
Руководил Министерством мелиорации и водного хозяйства ЧИАССР.
Принимал активное участие в восстановлении ингушской государственности. Был членом Президиума Народного Совета, межрегионального объединения «Возрождение». Продолжает борьбу за восстановление Конституционных прав ингушского народа, прекращения геноцида, начатого в 1944 г.
В настоящее время работает над реализацией Программы по оздоровлению экономики республики и формированию гражданского общества Ингушетии.
Куштов Якуб
строительный эксперт 2-го класса Российской Федерации. Был членом инициативной группы по проведению 2-го Съезда ингушского народа, членом Оргкомитета по восстановлению ингушской автономии. На 3-ем Съезде ингушского народа был избран в Президиум Народного Совета Ингушетии. Впоследствии, решением этой организации стал исполняющим обязанности председателя Народного Совета. Решение остается в силе по настоящее время. При принятии Закона «О реабилитации репрессированных народов» руководил штабом ингушской делегации, внес ряд существенных поправок в проект Закона. Возглавлял комиссию по проведению референдума, убедительно показавшего желание ингушского народа создать свою республику в составе РФ. Начал свой путь поиска справедливости еще в Алма-Ате в 1956 году, будучи студентом, получая специальность инженера-строителя. После известных событий в г. Грозном в 1973 году выступал с резкой критикой в адрес обкомов СОАССР и ЧИАССР, говоря о социальном положении ингушей в этих республиках.
Котиев Назир
Член Народного Совета Ингушетии. Активно участвовал в принятии Законов «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Республики Ингушетия». Имеет 43 года трудового стажа работы на ответственных должностях. Блестяще образованный, первым из ингушей окончивший Академию управления при Президенте РФ, воспитавший высоконравственных образованных детей, спасший взятого в заложники сына, он вынужден сегодня жить на мизерную пенсию и мириться с отсутствием социальных гарантий. И это потому, что вся его семья живет в поселке Карца – исконно ингушской территории, на которой до 1992 года проживало приблизительно 95 % ингушей. Человек исключительного мужества, гордости и твердости. Несмотря на постоянные провокации против членов его семьи и его земляков, постоянный стресс, в котором живет вся семья, на перенесенные 2 инфаркта, он не перестает и не перестанет обращаться к совести руководителей страны, призывая их выполнить законы, ими же подписанные:
«…Политика притеснения одних народов и возвеличивание других, начала осуществляться при диктаторе Сталине, подвергая целые народы жестокому и необоснованному геноциду… Русские, грузины, кабардинцы, дагестанцы с началом возвращения ингушей добровольно освободили их дома и села… Ингушский народ не требует ничего чужого и только свое кровное, отнятое у нас силой и незаконно удерживаемое. Мы не отказывались и никогда не откажемся от своей Родины…»
Абадиев Бек
Участвовал в принятии Законов «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Республики Ингушетия». Активно участвовал в ингушском национальном движении 1972-1973 и 1989-1992 гг. Журналист, искусствовед. Член Союза журналистов и союза театральных деятелей России.
Автор множества оригинальных пьес, рассказов, повестей (в том числе и детских), очерков и эссе. В 2007 году вышла его книга «Достойные сыны Отечества».
Основатель музея МВД Республики Ингушетия, директором которого был с 2002 года. Награжден орденом РИ «За заслуги», медалями и грамотами.
В настоящее время продолжает издавать книги. Удивительно обаятельный и жизнелюбивый человек.
Героев Юсуп
Активно участвовал в принятии Законов «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Республики Ингушетия». Член президиума Народного совета Ингушетии. Член Оргкомитета по восстановлению ингушской автономии. Был в составе Народного Совета Ингушетии.
После окончания московского института землеустройства и высшей партийной школы при ЦК КПСС, трудовую деятельность от рядового инженера до главного архитектора проектов, руководителя территориального производственного предприятия «Чечинггаз» при Совете министров ЧИР, директора московского филиала ЗАО «Центргазсервис», руководителя ОАО «Ингушнефтегазпром», заместителя председателя правительства РИ, успешно сочетал с партийной и общественной работой.
Награжден правительственными наградами, среди которых два ордена «Знак Почета», орден «За заслуги».
Боков Федор
Содействовал принятию Законов «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Республики Ингушетия». Делегат 2-го и 3-го Съездов ингушского народа. Член Оргкомитета по восстановлению автономии Ингушетии, а затем член президиума Народного Совета Ингушетии. Кандидат исторических наук, автор книг: «Яд криминала», «Я – русский Боков. Раздумья русского лица «кавказской национальности», «А это и есть фашизм» (о зверствах против граждан ингушской национальности в Северной Осетии в 1992 году).
Проживает на Украине. Человек редкого обаяния, всегда желанный гость в Ингушетии.
Абадиева Хава
Тележурналист. Член Оргкомитета по восстановлению ингушской автономии, а затем и Народного Совета Ингушетии. Работала в Чечено-Ингушской Гостелерадиокомпании. В настоящее время работает на ГТРК «Ингушетия» спецкором ГТРК «Ингушетия». Ведет ряд популярных авторских программ «Долгая дорога домой», «В мире прекрасного», «История свидетельствует». Заслуженный работник культуры. Награждена «Орденом за заслуги».
Музаев Магомед
Член Оргкомитета и Народного совета Ингушетии. Активно участвовал в принятии Закона «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Республики Ингушетия». В настоящее время зам. Председателя Народного Совета Ингушетии.
Ученый – историк. Бескомпромиссен в вопросах исторической справедливости.
За непреклонность и принципиальность в вопросах национальной политики подвергался гонениям со стороны партийной номенклатуры. Многие помнят его выступления на «Круглом столе» во Владикавказе с участием северо-осетинских историографов и ученых из Чечено-Ингушетии.
Куштов Джабраил
Член Оргкомитета и Народного совета Ингушетии. активно участвовал в принятии закона «О реабилитации репрессированных народов», «Об образовании Республики Ингушетия». Заместитель председателя филиала Народного совета Ингушетии во Владикавказе.
Член инициативной группы по проведению 2-го Съезда Ингушского народа. Отвечал за безопасность мероприятия. В дни Съезда ему удалось предотвратить попытку группы экстремистов устроить провокацию по срыву работы делегатов. Один из активнейших участников движения по восстановлению ингушской государственности, отличавшийся конкретностью в постановке целей и решении поставленных задач.
http://right-partner.ru/projects/article/97
РЕЦЕНЗИЯ на сборник документов и материалов
«Ингушетия в политике российской империи на Кавказе»
Сборник подготовлен архивной службой Республики Ингушетия и Ингушским НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева и издан в издательстве «Южный издательский дом» г. Ростов-на-Дону в 2014 году тиражом в 1000 экземпляров. Составитель и редактор сборника М.М. Картоев – руководитель архивной службы Республики Ингушетия. Рецензенты: к.и.н. Л.М. Парова; к.и.н. В.Х. Танкиев; д.п.н. И.М. Сампиев.
Издание представляет собой солидно оформленную, с твердой глянцевой обложкой и иллюстрациями (фрагменты географических карт, фоторепродукции художественных картин, фотографий), книгу на офсетной бумаге в 38 печатных листов (603 с.).
Все документы, входящие в сборник, распределены в 3-х разделах:
1. Ингушетия в системе российского управления на Кавказе: от генерала Ермолова до великого князя Михаила.
2. Ингушетия в Кавказской войне 1817-1864 гг.
3. Военно-топографические описания и статистика численности населения.
Приводимые в сборнике документы и материалы периода Кавказской войны, несомненно, представляют интерес для широкой общественности, хотя большинству исследователей, занимающихся кавказской тематикой, они известны. Вместе с тем данный сборник, несомненно, расширяет перечень доступных для широкого круга читателей архивных материалов того периода.
Специально подобранные в сборнике документы, в основном, преследуют следующие цели:
— показать преданность и верность предков современных ингушей царскому самодержавию;
— обосновать претензии руководства Республики Ингушетия на земли высокогорной Чечни, а также исторической области «Малая Чечня», являвшихся составными и неотъемлемыми частями территории Чечни.
В аннотации к сборнику документов автор берет сразу с места в карьер: «В настоящем научно-документальном издании представлена политика Российской империи в XIX веке (до начала 1870-х гг.), реконструируемая на примере Ингушетии – небольшой локальной области Северного Кавказа, которой в силу своего стратегического географического расположения суждено было стать одним из ключевых центров российского влияния в регионе в период многолетней Кавказской войны».
О какой Ингушетии идет речь, если само слово «ингуши» («ингушевцы»), происходящего от слова Ангушт — первого населенного пункта совместного проживания представителей западных нахских территориальных обществ (до этого они жили в чисто родовых поселениях), появилось только на рубеже XVIII-XIX веков?
Как бы это не хотелось представить ингушским ученым, никакой Ингушетии, как таковой, на тот период еще не существовало. Было несколько вольных, независящих друг от друга и зачастую враждующих между собой западных нахских территориальных обществ, расположенных в высокогорьях Бокового хребта, небольшая часть представителей которых в конце XVIII века выселилась на плоскость в так называемую Тарскую долину, контролируемую на тот период кабардинцами.
На счет «центра российского влияния в регионе в период многолетней Кавказской войны». Действительно, крепость Владикавказ, заложенная известным екатерининским фаворитом князем Потемкиным в 1784 году, была форпостом России на Кавказе, но причем тут ингуши, которые, в силу своей малочисленности, сами нуждались в защите. Как известно, значительная часть из них («назрановцы») в 1810 году дала присягу о верноподданстве России, чтобы с помощью царской армии освободиться от зависимости кабардинских и кумыкских князей, считавших их своими подопечными, и закрепиться на плоскости. Кстати, документа с этой присягой в сборнике, почему-то, нет.
В отличие от этнонимов «Чечня» и «Чеченское племя», включавших в себя практически все нахские территориальные общества Северного Кавказа и Закавказья, в том числе и западные, понятий «Ингушетия», «ингушский народ», как таковых, к концу XVIII — началу XIX веков не существовало. Эти этнонимы появились позже, когда в противовес Чечне для нескольких близкородственных чеченцам западных нахских территориальных обществ искусственно начали создавать новый регион, а из его населения – новую народность.
В письменных источниках рубежа XVIII-XIX веков современных ингушей называли «ингушевцами», «галгаевцами», «джейраховцами», «назрановцами», «цоринцами», «ближними кистинцами». Все они представляли собой вольные нахские общества, не находящиеся хоть в какой-то зависимости друг от друга. Представителей этих обществ объединял этноним «вейнах» («наш народ»). Никакого другого названия, объединяющего их как народ, не было. Как свидетельствует известный ученый-филолог Н.Ф.Яковлев, даже свой родной язык они называли не ингушским языком, а «вей мотт» («наш язык»). В то время, когда абсолютное большинство нахских территориальных обществ уже объединились не только как «вайнахи», но и как «чеченский народ».
Происхождение этнонима «чеченцы» обычно связывают с большим населенным пунктом Чечана (Чеча), расположенным в центральной части плоскостной Чечни, хотя, на самом деле, он имеет намного более древнее происхождение. Сами чеченцы называют себя «нохчи//нахчи». У чеченцев это имя народа, а не конкретного общества, тукхума или тайпа. Именем «нохчи» чеченцы называют как весь свой народ, так и каждого его представителя в отдельности.
Что касается «ингушей», то тут совсем другое дело. Парадоксально, но факт, что этнонима, объединяющего все западные нахские этнотерриториальные общества, проживающие на территории современной Ингушетии, в один народ на ингушском языке нет до сих пор, как нет и нейтрального общепризнанного названия страны. Все это лишний раз показывает искусственность данного образования.
Этноним «ингуши» на ингушский язык переведен как «г1алг1ай». В то время как «г1алг1ай» — всего лишь одна из частей современного ингушского народа (вместе с цоринцами, джейраховцами и частью орстхойцев). Что же касается русского названия Республики Ингушетия, то оно переведено как «Г1алг1ай мохк» («Страна галгаев»).
Если с русским названием народа и республики представители других, скажем так, «субъектообразующих» территориальных обществ Ингушетии и могут как-то согласиться, то вряд ли «орстхоевец» или «цхороевец» назовет себя «г1алг1аем», а свою республику — «Г1алг1ай мохк».
Таким образом, этноним «г1алгай» не равнозначен русскому этнониму «ингуши» или «ингушский народ». Он покрывает всего лишь одну из его частей – «галгайцев», вышедших из трех высокогорных сел Таргим, Эгикал и Хамхи. А «Г1алг1ай мохк» (официальное название страны), соответственно, покрывает всего лишь территорию проживания галгайского общества в верховьях Ассы, а все представители других нахских территориальных обществ, населяющих современную Ингушетию, остаются вне рамок этого названия. Это примерно то же самое, что было с переименованием Чеченской Республики в Ичкерию, являвшейся только частью Чечни. Что же касается самих «галгайцев», то по мнению известного чеченского писателя и этнолога Ахмада Сулейманова «г1алг1ай»// «г1алг1ой» — это представители чеченского тайпа «Г1ой, выходцы из Нашха, основавшиеся в верховьях реки Асса».
Широко известно, что абсолютное большинство нахских территориальных обществ с выселением их представителей на плоскость, основанием больших общих населенных пунктов, развитием земледелия, а также различных кустарных производств и, самое главное, принятием ислама начали консолидироваться в один народ. Нравится это кому-то или нет, но этот народ был чеченским. Западные же нахские территориальные общества, в силу определенных объективных и субъективных причин (относительная обособленность от живущих на равнине родственных этнических групп, принявших ислам; сильное влияние языческих и христианских традиций; боязнь верхушки этих обществ потерять контроль над своими сородичами и т.д.), в основном, остались вне этого процесса.
Всем этим не преминула воспользоваться царская военная администрация, взяв под свое покровительство эти «ничейные» общества. Царской охранкой был запущен процесс искусственного создания из них отдельного народа, в противовес своим военным противникам – чеченцам. Организованное выселение из горных ущелий на плоскость, христианизация (по свидетельствам отдельных исследователей общее количество ингушей, принявших христианство, составляло две трети всего их населения), устройство детей в духовные семинарии, горские школы и военные учреждения, создание милицейских отрядов, определение территории проживания западных нахских территориальных образований в отдельные от чеченских военные округа (Владикавказский – вместе с осетинами, Сунженский – вместе с казаками, Ингушевский). Свидетельства об этом можно найти и в обсуждаемом нами сборнике.
Нет никакого сомнения в том, что если бы чеченцы не выступили против России и, как ингуши, мирно пристроились бы в обоз их военной машины, второго вайнахского народа сегодня бы не было. Не было бы лишь потому, что Россия, в таком случае, не препятствовала бы завершению естественного процесса консолидации всех близкородственных нахских обществ в один чеченский народ, а не разбивала бы его искусственно на части в своих политических целях. Как не препятствовала она, к примеру, объединению лояльных себе иронцев, дигорцев и кударцев в один осетинский народ.
Одной из главных целей, преследуемых авторами сборника (целенаправленной подборкой документов и своеобразной их интерпретацией), как мы уже отметили выше, является попытка хоть как-то обосновать сложившуюся на сегодняшний день административную границу между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, когда в пределах границ последней из них остались земли Сунженского и Малгобекского районов, входившие до объединения двух республик в Чечню. Как известно, Чеченская и Ингушская автономные области были объединены в 1934 году в рамках определенных, официально установленных административных границ. После распада единой Чечено-Ингушской Республики и образования Чеченской Республики и Республики Ингушетия, административная граница между ними не была демаркирована.
Дело в том, что различные административные изменения в пределах единой Чечено-Ингушетии, будь то укрупнение районов или образование новых, проводились без учета прежних границ двух составляющих ее республик. Возможно, руководство Чечено-Ингушетии не могло предположить, что республика распадется на две ее составляющие части. Хотя верить в то, что это было сделано непреднамеренно, с учетом того факта, что активная деятельность ингушской интеллигенции по воссозданию своей автономии не прекращалась ни на один день и должность Председателя Президиума Верховного Совета ЧИАССР была закреплена за ингушами, с каждым днем становится все труднее.
Так, например, в начале 60-х годов прошлого века волюнтаристским образом был укрупнен Сунженский район бывшей Чеченской АО присоединением к нему части Галашкинского района, входившего ранее в Ингушскую АО. В то же время, за счет территории бывшего Чеченского АО был укрупнен Малгобекский район. Сложившаяся на сегодняшний день по факту граница Чеченской Республики и Республики Ингушетия не учитывает эти изменения. Весь чеченский Сунженский район, вместе с небольшой частью ингушского Галашкинского района, так же, как и Малгобекский район (с частью чеченской территории) на сегодняшний день административно входят в Республику Ингушетия. Не считая двух населенных пунктов Сунженского района: с. Серноводск и ст. Ассиновская.
Таким образом, воспользовавшись смутным временем и правовым хаосом, связанным с принятием решения об одностороннем выходе Ингушетии из состава Чечено-Ингушетии на «Съезде депутатов всех уровней Ингушетии» 15 сентября 1991 года в ст. Нестеровской, провозглашением независимости Чеченской Республики 1 ноября 1991 года, созданием Ингушской Республики в 1992 году без определения ее административных границ, а затем и двумя так называемыми чеченскими войнами, когда чеченцам было не до разграничения территории с ингушами, руководство Республики Ингушетия, основательно закрепившись на данной территории, пытается самостоятельно, без всякого согласования с Чеченской Республикой, оставить за собой Сунженский район и часть Малгобекского района, входивших до 1934 года в состав Чечни. Так, население сопредельных с Чеченской Республикой населенных пунктов за последние 20-25 лет увеличилось в два-три раза. В абсолютном своем большинстве – за счет перемещения населения из внутренних районов Ингушетии.
Первые руководители Республики Ингушетия неоднократно напрямую обращались к руководству России с просьбой узаконить «устоявшуюся», как они ее называют, границу между Чечней и Ингушетией. Заодно ингушские исследователи получили задание «не мытьем, так катаньем» обосновать свои претензии на вышеназванную территорию.
Обсуждаемый нами сборник, по замыслу его автора, как раз и должен внести свою лепту в дело узаконения этой «устоявшейся» на сегодняшний день административной границы между двумя республиками.
Вот что пишет Картоев в своем предисловии к сборнику об исконных чеченских землях, бывших в составе различных чеченских административных образований еще с царских времен: «… С другой стороны, это восточные земли ингушских территориальных обществ (по рекам Асса, Фортанге, Валерик, Гехи), большей частью исламизированные и тесно связанные с имаматом, составлявшие основное население так называемой Малой Чечни. Само наименование этой территории, учитывая ее, в основе своей, не собственно чеченский этнический состав, было условным, также как и номинальное, в особенности в горной зоне и в ущелье Ассы (галашевцы), подчинение власти имамата».
О каких это мифических «восточных землях ингушских территориальных обществ (по рекам Асса, Фортанга, Валерик, Гехи)» пишет составитель сборника? Если об орстхойцах, аккинцах, кейцах, галайцах, нашхойцах, то эти территориальные общества давно определились со своей национальной принадлежностью и являются составными и основополагающими частями чеченского народа.
Как известно, Нашха является прародиной чеченцев. Отсюда был родом Турпал-Нахчо — первопредок чеченского народа. «Как искры сыплются от булата, так рассыпались мы от Турпала-Нахчо. Родились мы в ту ночь, когда щенилась волчица. Имена нам были даны под рев барса заревой», — поется в одной из чеченских героических песен. Именно от слова Нашха (Нахша) произошло и самоназвание чеченцев – «нахчо//нохчо», сохранившее в своей корневой основе их древний идентификационный код «нах» — «люди».
Что касается галайцев (галашевцев), то в Галанчожском ущелье Чечни, рядом с озером Галанчож, находятся развалины древнего селения Акха-Баса, выходцами из которого являются – чеченцы-галайцы (галашкинцы). Тут же рядом — остатки населенного пункта Бурги-г1аланаш, откуда родом Белхороевы. Напротив Кхоьрга – родовое поселение Кориговых.
Кейцы//кийцы, от названия которых, как считает исследователь Л.Ю. Маргошвили, грузины и назвали чеченцев «кистами» («Кийста» по аналогии с «Майста», «Маьлхиста»), одними из первых выселились на равнину и основали в притеречье село Кень-Юрт. Много кейцев в Толстой-Юрте, Урус-Мартане и других чеченских населенных пунктах.
Аккинцы испокон веков живут как на востоке, так и на западе Чечни и являются неотъемлемой составной частью чеченского народа.
А представители орстхойцев (галайцы, ялхоройцы, цечойцы, мержойцы и т. д.) живут практически во всех плоскостных селах Чечни и с достоинством носят имя чеченцев.
Если Картоев под «восточными ингушскими территориальными обществами» подразумевает незначительную часть из них, что на сегодняшний день в силу проживания в административном образовании ингушей формально записаны ингушами, то ни один из них не считает себя ингушом-галгайцем.
Что значит «исламизированные»? Никто чеченцев не исламизировал! Они приняли ислам добровольно. Ислам был основным фактором, объединившим абсолютное большинство нахских территориальных групп под древним именем «нахчий». За рамками этого объединения остались лишь те общества, которые придерживались различных языческих и полухристианских культов, в силу чего они и стали основой для конструирования царским самодержавием, а затем и Советской властью новой этнической общности, направленной против своих единокровных братьев.
«Между тем, восточные ингушские территориальные общества, оказавшиеся активно втянутыми в Кавказскую войну, номинально входили в так называемую территориальную единицу имамата – Малую Чечню и покорялись долгие годы силой оружия», — пишет Картоев.
Во-первых, географический термин «Малая Чечня» введен в оборот не имамом Шамилем, как это пытается представить составитель сборника, а российской военной администрацией. Не является этот термин и калькой с чеченского языка. Абсолютно естественно, что в русскоязычных источниках, а от них и в зарубежных, для обозначения данной территории, граничившей на северо-западе с Малой Кабардой, используется русский термин «Малая Чечня». В данном случае русские исследователи были вполне объективны и индифферентны по отношению к местным туземцам и все обозначили своим именем, как это и было на самом деле. Потому и назвали данную территорию, населенную чеченцами — Малой Чечней, а не «восточной Ингушетией», как это задним числом, по заказу власть имущих, старается представить составитель сборника.
Если Картоев считает, что Малую Чечню и карабулакские селения на Сунже можно назвать «восточной Ингушетией» в связи с массовым переселением чеченцев, в том числе орстхойцев и галашевцев в страны Ближнего Востока по окончании Кавказской войны (кстати, все они проживают там под именем чеченцев), проведенной родственником ингушей Мусой Кундуховым, и занятием галгаевцами их опустевших сел и земельных угодий, то он глубоко ошибается. Каждый орстхоевец или галашевец прекрасно осведомлен буквально о каждом клочке земли своих предков.
Смешными выглядят такие сентенции главного архивариуса Республики Ингушетия: «Само наименование этой территории (Малой Чечни – У.Х.), учитывая ее, в основе своей, не собственно чеченский этнический состав, было условным …»?
Понимает ли автор этих слов, что представляет из себя Малая Чечня географически? К сведению Картоева, это территория в два раза большая, чем территория современной Ингушетии. С востока на запад она простиралась от реки Аргун до реки Ассы в среднем и нижнем его течении (некоторые исследователи восточной границей Малой Чечни считают реку Гой, протекающую в нескольких километрах к западу от реки Аргун). С севера на юг она включала в себя пространство от реки Сунжа в среднем и нижнем течении до высокогорных районов Чечни.
В Малую Чечню входили такие крупные плоскостные чеченские села, как Чечен-аул, Атаги, Алды, Гойты, Алхан-Юрт, Урус-Мартан, Гехи, население каждого из которых исчислялось тысячами человек. Это не считая десятков и сотен менее населенных малочеченских хуторов и деревень. Только лишь в одном Урус-Мартане в середине 60-х годов XIX века насчитывалось около 1500 дымов (семей), платящих налоги. Это, примерно, 10 тысяч человек. Каким образом название данной территории «Малой Чечней» могло быть «условным», если там проживала, по меньшей мере, треть всех чеченцев.
«Горские земли, в особенности находящиеся в верховьях Ассы, Фортанги, Гехи, которые, несмотря на ряд военных экспедиций, попыток включения в систему приставского управления, все еще пребывали в своем патриархальном укладе, далеком как от русского влияния, так и от влияния имамата и ислама», — продолжает автор сборника.
Сказанное об отсутствии «влияния имамата и ислама» верно только в отношении подлинных ингушей-галгайцев, проживавших в верховьях Ассы и в абсолютном большинстве придерживавшихся языческих культов. Что же касается населения верховьев Фортанги и Гехи, то проживавшие там чеченские общества, в отличие от галгайцев, приняли ислам, в силу чего, во многом, и воевали под знаменами Газавата (были среди них и наибы Шамиля: Батуко Шатойский, Газимагомед Дударов, Алдын Нашхинский, Бисни Гелаг). И, между прочим, воевали не только против царской армии, но и против своих собратьев галгайцев-язычников. Как же не было «влияния ислама и имамата», если люди отдавали за это самое дорогое — собственные жизни?
Сравнив непосредственно сами документы и то, как их трактует составитель сборника, можно утверждать, что зачастую это делается абсолютно некорректно. Так, Картоев пишет: «Между тем Шамиль в этом же году, находясь в восточной части горной Ингушетии, в Аккинском обществе, был ранен и чудом избежал смерти, подвергшись нападению старшины Губиша Какиева, мстившего за жестокое наказание, которому подверглись накануне он сам и его братья за конфликт с имамом». В самом документе, на который ссылается Картоев, нет ни одного слова ни об ингушах, ни об Ингушетии. Речь здесь идет об известном во всей Чечне сюжете с ранением Имама Шамиля жителем чеченского села Гухой Губашем (в настоящее время в Чечне живет его многочисленное потомство). Какое отношение этот случай имеет к Ингушетии? С каких это пор Аккинское общество, на протяжении всей своей истории противостоявшее экспансии ингушей-галгайцев, стало входить в «восточную часть горной Ингушетии»? Узнав об этом, известный эпический предводитель аккинцев – Воккхал, наверное, перевернулся бы в собственной могиле.
«Решение российской администрации о поселении ингушей в большие аулы … по факту – грубое вмешательство во внутреннее территориальное устройство их «страны», — продолжает Картоев.
О каком «грубом вмешательстве во внутреннее территориальное устройство их «страны» (слово «страны» автором стыдливо взято в кавычки) идет речь, если обустройством ингушей на плоскости как раз российские военные и занимались (иначе, кто бы их туда пустил). Судьба ингушей была в руках местных российских военно-административных органов. Захотели – организованно выселили с гор на плоскость, чтобы противопоставить своим собратьям чеченцам. Захотели – собрали всех в нескольких крупных селах, когда в их услугах не стали нуждаться, а их самих стали воспринимать так же, как и чеченцев, от которых они всячески старались отмежеваться. Вот что пишет по этому поводу бывший наместник Кавказа генерал-фельдмаршал А.И.Барятинский: «Назрановское общество покорилось в 1810 году, но несмотря на покорность, не оставляло хищных своих наклонностей. Во всех разбоях и грабежах на ближайших дорогах и даже в самом Владикавказе всегда находились улики или падало подозрение, что назрановцы принимали в них участие».
«Ингушская милиция была в авангарде войск при отражении Шамиля от границ Ингушетии», — с гордостью пишет составитель сборника.
А чем тут гордиться? Ингушская милиция, состоящая всего лишь из одной или пары сотен человек, была в авангарде не своих, а чужих войск. И вообще, где бы ингушская милиция ни находилась, в авангарде или арьергарде, она была всего лишь одним из вспомогательных подразделений царской армии и, по большому счету, в силу своей малочисленности, в военном отношении практически ничего не решала.
Апофеозом комментариев составителя сборника является следующее его высказывание об «описании» Владикавказского округа неким Н.Н. Забудским, которым, по его мнению, «совершенно верно, в отличие от некоторых других описательных материалов, допускающих искажения, определена этнотерриториальная структура Ингушетии». А вот то, что так обрадовало ингушского ученого в описании Забудского: «К племени ингушей, занимающих плоскость и котловину Кавказских гор с правой стороны Терека до верхних частей Аргуна и до течения Фортанги, принадлежат: 1) назрановцы с Комбулейским обществом; 2) джераховцы; 3) карабулаки; 4) цоринцы; 5) ближние кистинцы с небольшим обществом малхинцев, вновь покорившимся; 6) галгай; 7) галашевцы и 
На основании такого поверхностного вывода штабного офицера Забудского, скорее всего, сделанного на основании сведений, предоставленных ему информатором-ингушом, которых в различных штабах русской армии под видом переводчиков, лазутчиков, интендантов, различного рода осведомителей и даже младших офицеров в те времена было более чем достаточно, Картоев пишет: «Таким образом, подводя итог изучения Кавказа предшествующего периода, Забудским были исправлены ошибки ряда авторов, относящих приграничные общества ингушей – на западе к осетинам, а на востоке – к чеченцам». Ни больше, ни меньше. Бедные кавказоведы, что бы вы делали без Картоева с Забудским? Неужели автор сборника думает, что люди будут определять свою национальную принадлежность по описаниям какого-то Забудского?
Никто не отрицает того, что в «верхних частях Аргуна» и по «течению Фортанги», как и в других областях проживания нахских территориальных групп, жили близкородственные к «племени Ингушей» общества. Но, вместе с тем, нет никакого сомнения и в том, что ингушами они точно не были, потому, что находились не совсем в дружеских отношениях с ними. Хилдехароевцы, майстинцы, малхинцы, терлойцы, жившие в верховьях Аргуна, а также галайцы и орстхойцы, жившие по течению Фортанги, были независимыми от всех остальных нахских (вайнахских) территориальных обществ объединениями, со своими руководством, судами и другими институтами регулирования общественной жизни. С освоением ими, вместе с другими родственными нахскими обществами, плоскости и принятием ислама они были вовлечены в процесс формирования единого нахского народа под именем «чеченцы» и стали составными частями этого объединения.
Можно ли верить «описанию» Забудского, если он в своем «исследовании» допускает такие ляпы, которые объясняются только абсолютным невежеством в предмете, о котором он взялся рассказывать. Так, он пишет: «Цоринцы. Небольшое ингушевское общество, получившее свое название от главного аула их Цори, в коем считается дворов 30; занимают они плодородную Тарскую долину…» Где Цори, а где Тарская долина? Или «… В обществе Галашевском несколько аулов, расположенных в соседстве Чеченского племени Ахо или Ако, при восточном истоке р. Ассы, также носят название общества Цори». Цоринцы не входят в Галашевское общество. Неверным является также расположение малхинцев («дальние кистины») в Кистинском ущелье, а также отнесение аула Обин, относящегося к Кистинскому обществу, к Джерахскому обществу. И вот такой штабной «исследователь», не владеющий материалом, будет «исправлять ошибки» известных во всем мире кавказоведов.
Умиляет произвольная трактовка Картоевым описания Бларамбергом так называемой Кистинии, которая у него намеренно отождествляется с собственно Ингушетией. У Бларамберга под Кистинией подразумевается вся горная часть современной Чечни и Ингушетии. Из 19 округов, определенных Бларамбергом как составных частей Кистинии, две трети являются округами, население которых стояло у истоков зарождения (возрождения) чеченского народа. Все это подтверждает и описание границ Кистинии, которое дается непосредственно самим Бларамбергом: «Кистинцы населяют высокогорные долины склонов Северного Кавказа; к северу от них живут чеченцы и ингуши (имеются в виду плоскостые чеченцы и ингуши – У.Х.), к востоку – племена лезгин и аварцев, на западе проходит большая Военно-Грузинская дорога и Джерахия, к югу – живут гудомакары, хевсуры и тушины» (Иоган Бларамберг «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа». Москва, 2005, с. 328).
Таким образом, Картоев в очередной раз старается представить территорию Кистинии, описанную Бларамбергом, как территорию Ингушетии. Хотя на самом деле у Бларамберга, так же, как и у Берже и многих других известных исследователей, ингуши сами входят в состав племенного объединения чеченцев.
Не может быть того, чтобы составитель сборника не знал о том, что только горные нахские территориальные общества и составляют основу чеченского народа? Все коренные чеченские тайпы (в Ичкерии, Притеречье и во всех плоскостных селах Большой и Малой Чечни) являются выселенцами из горных нахских территориальных обществ, в том числе и определенная часть из западных. Не зря чеченцы говорят: «Тот не чеченец, кто не знает историю семи поколений своих предков, не имеет своей тайповой горы и родовой башни».
Скорее всего, еще не до конца осознавая последствия своих неуклюжих попыток включить представителей некоторых западных нахских территориальных обществ в «г1алг1ай къам», а их земель в «Г1алгай мохк» (Ингушетию), Картоев то и дело путается в собственных измышлениях. Так, в «Перечне персоналий» представителей орстхойцев и галашевцев он называет таким образом: «ингушский старшина Карабулакского общества», «ингушский старшина Галашевского общества», «имам ингушского селения Большой Яндырки (Карабулакское общество)». В то же время представителей собственно ингушей-галгаевцев он обозначает просто: «Старшина галгаевского общества», «Галгайский старшина», «Ингушский старшина». Как понимать читателю такую абракадабру, как «ингушский старшина карабулаков»? Как «галгаевского старшину над карабулаками»?
То же самое творится и с «Перечнем географических названий»: «ингушское селение в Карабулакском обществе», «ингушское селение в Галашевском обществе» и т. д. Если автор подразумевает под «карабулаками» и «галашевцами» ингушей, то зачем тавтологией заниматься? Ведь с действительно ингушскими селами Картоев, почему-то, так не поступает. Так, населенные пункты Назрановского общества он называет не «ингушскими селениями в Назрановском обществе», а просто «селениями в Назрановском обществе». Все это, на первый взгляд, мелочи, но в данном конкретном случае они несут в себе скрытую смысловую нагрузку.
Тут же автор сборника, включив все свое воображение, начинает писать о находящихся в верховьях Аргуна «небольших ингушских территориальных группах (обществах), объединившихся под общим наименованием «кистинцы» или «дальние кисты», позже ассимилировавшихся с чеченцами».
Во-первых, «кистами» или «кистинцами» называли как чеченцев, так и ингушей, проживавших в высокогорных районах современной Чечни и Ингушетии. Чеченцев, проживавших в верховьях Аргуна, называли «дальними кистинами», ингушей, проживавших в Джейрахском ущелье – «ближними кистинами». Никаких «ингушских территориальных групп (обществ)» в верховьях Аргуна никогда не было, впрочем, как не было до начала XIX века и самого ингушского народа.
Что касается «дальних кистин», ассимилировавшихся с чеченцами», то в этом не было никакой необходимости – это был один народ, с одним корнем, языком, с одной материальной и духовной культурой, как и несколько западных нахских территориальных обществ, искусственно выведенных из их состава.
А во что в сборнике сказано о чеченском селе Доьлак (Пседах): «Пседах — селение в Малой Кабарде, позже центр Пседахского участка Ингушского военного округа». И ни одного слова о том, что это чеченское село, что оно появилось в Малой Кабарде далеко до организованного переселения сюда царскими войсками ингушей из Тарской долины и окрестностей крепости Назрань в XIX веке.
Необходимо обратить внимание на то, что абсолютное большинство документов лишены собственных оригинальных заголовков. Они даются в авторском изложении Картоева. В связи с этим, в заголовках многих документов, с легкой руки составителя, появляются не существовавшие на тот период понятия «Ингушетия» или «восточная Ингушетия». Так, в документ, в котором идет речь об удалении католического миссионера Блея «из Назрана», Картоев вместо «Назрана» пишет «Ингушетия» и озаглавливает этот документ «О высылке из Ингушетии католических миссионеров» (документ № 2); называет список мулл, выбранных ингушевскими и карабулакскими жителями «списком мулл, избранных жителями плоскостной Ингушетии» (документ № 13); поездку протоиерея Андрея Кульманицкого в Назрань и Шалхи называет поездкой в Ингушетию (документ № 53).
Интересным является документ, озаглавленный Картоевым «Рапорт военному министру генерал-адъютанту графу Чернышеву командира отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютанта барона Розена о военно-топографических съемках и описаниях в горной Грузии, Ингушетии, Чечне и Дагестане» (документ № 339). Есть в данном рапорте сведения и про Грузию, и про Чечню, и про Дагестан, но нет ни одного слова про Ингушетию и даже ингушей. Если автор сборника подразумевает под ними Кистинию и кистинцев, то он ошибается. В данном случае речь идет о так называемых «дальних кистинцах» — чеченцах, а не о «ближних» — ингушах. Это запросто можно понять по контексту.
Как мы видим, отдельными ингушскими учеными, при поддержке руководства республики, продолжаются целенаправленные попытки переписать историю и обосновать свои территориальные претензии на земли сопредельных республик. Данный сборник является ярким примером таких притязаний. Но, как бы они не старались, сделать им это не удастся. Не удастся потому, что это противоречит действительности.
Необходимо отметить, что собрание документов Картоева знакомит нас только с материалами из российских архивных источников, которые освещают события периода Кавказской войны с точки зрения царского самодержавия, непосредственно воевавшего с горцами на Кавказе. Этого совсем недостаточно для объективной реконструкции событий тех лет. Необходимы документальные источники, показывающие видение всех перипетий этого периода с противной стороны (Мухаммад Тахир аль-Карахи, А. Руновский) или, например, документы из турецких и английских архивов.
Оформление подобранных документов выполнено, в целом, с соблюдением принятых в археографии правил. Сборник снабжен перечнями персоналий, географических названий и опубликованных документов, а также красочными иллюстрациями.
Данный сборник дает хорошую возможность для самостоятельного анализа приведенных в нем документов.
Хамзат Умхаев
www.ChechnyaTODAY.com
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна
Ингуши — автохтонный народ Кавказа, чья древнейшая история уходит корнями во второе тысячелетие до нашей эры. Жизнь народности столетиями регулируют нормы единого для всех морально-этического кодекса. Свод неписаных правил позволил до сегодняшних дней сохранить непререкаемый авторитет старейшин, уважение к предкам, ценность семьи и чести.

Где живут, численность
Ингуши — автохтонное население Северного Кавказа. Большая часть представителей народности продолжает занимать места исторического расселения: Ингушетию, часть Северной Осетии. В результате захвата территорий российскими властями во второй половине XIX столетия, репрессий в конце Великой Отечественной войны, значительная часть ингушей выселена в Османскую империю, Среднюю Азию, Казахстан. Передел исторических ингушских территорий в сороковых годах прошлого столетия между Грузией и Грозненской областью поныне является причиной конфликтов чеченских, ингушских, осетинских народов.

Общая численность ингушей в мире, по данным на 2012 г., составляет порядка 700 000 человек. Разделение народа по государствам:
- Россия — 444 833 чел.
- Турция — 85 000 чел.
- Сирия — 35 000 чел.
- Иордания — 25 000 чел.
- Ливан — 20 000 чел.
- Казахстан — 15 000 чел.
В России наибольшее число ингушей проживает в Республике Ингушетия — 385 537 человек. Значительная часть — 28 336 человек, продолжает занимать исторические зоны расселения, ныне относящиеся к Пригородному району Северной Осетии. От 1000 до 5000 ингушей живет в Республиках Чечня и Кабардино-Балкария, Москве, Ставропольском крае, Тюменской и Ростовской областях.
Название
Самоназвание народа возникло от названия ингушского поселения Ангушт, располагающегося в Северной Осетии на территории Пригородного района. Существует другое самоназвание народа: ГIалгIа́й, или галгаи, в переводе означающее «жители башен».
Жилище

Этноним «галгаи» возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей — каменных башен. Они составляли горные поселения, располагавшиеся в глубине ущелий, на склонах. Боевые башни достигали высоты 16 м, жилые возводились на высоту в 2-3 этажа. Существовали полубоевые сооружения высотой до 10 м: первые этажи занимали жилые помещения, вверху располагались бойницы, площадки для обороны в случае нападения врагов.
Башни строили из камней — природного материала, в изобилии имевшегося в горной местности. Стены украшали петроглифами, солярными, спиральными, антропоморфными, животными изображениями. Знаки несли сакральный смысл, обращались к языческим ингушским божествам, обладали защитными функциями.
На передней стене главный строитель боевой башни или старейшина рода оставлял отпечаток ладони. Считалось, он дарит защиту от врагов, злых духов. На территории Ингушетии сохранилось более 100 башенных селений, общее число построек XIII–XIX столетий составляет порядка полутора тысяч. Конструкции сооружений, долговечность построек говорят о высоком мастерстве строителей, архитекторов.
Существовала традиция: завершить возведение новой башни требовалось за год, иначе считалось, что род ослабевает, угасает. Высотой конструкции, общим состоянием, числом комнат, оценивались благосостояние, надежность семьи. Существовала пословица: «Поведай мне, что за башня у твоей семьи, я отвечу, достоин ли ты моей дочери!».
Традиции
С каменными постройками связывали не только жизнь, но и смерть человека. Другая пословица гласит: «Живому человеку требуется башня, а мертвому склеп». Каждый род имел фамильный склеп, располагавшийся недалеко от жилища. Ингуши видели в этом философию созерцательности, размышлений о нормах морали живых. Глядя на постройки, где родные находили вечный покой, предполагалось думать о вечном, совершенствовать душу при жизни.

Склепы строили в виде просторных помещений, напоминавших жилые башни с покатыми крышами. Сюда после смерти помещали останки погибших. Второй вариант — небольшие сооружения, напоминающие дольмены, снабженные щелями для проникновения света и воздуха. Подобная конструкция неслучайна: со времен аланской культуры существовал обычай, по которому умирающий человек сам или с помощью близких еще до смерти перемещался в склеп.
До прихода ислама в XIX столетии в горных регионах старики почитали за честь успеть самим дойти до места своего вечного приюта. Выйти из склепа считалось величайшим позором, запрещалось заносить внутрь пищу. Случалось, что родственники навещали умирающего в течение нескольких дней после перехода в склеп.
С повсеместным распространением ислама подобный способ погребения ушел в прошлое: умерших начали хоронить по мусульманским обрядам. Тело обмывали, одевали в светлые одежды, заворачивали в ковер и выносили на двор, где желающие устраивали прощание. Процессия выдвигалась на фамильное кладбище, где после молитв тело предавали земле. Женщины на кладбище не допускались: в их задачи входило приготовить обильный поминальный обед. Как и на свадьбы, на проводы в последний путь, занимавшие до трех дней, собирались все члены огромных ингушских фамилий, друзья, соседи.
Свадебные традиции

Брачный возраст мужчин наступал в 17-20 лет, девушек — в 15-17 лет. Невесту тщательно выбирали родители жениха, оценивая род в целом, особое внимание уделяя женской половине. Свадебная обрядность начиналась со сватовства, в котором участвовали родители и родственники мужа. Для получения согласия требовалось прийти в дом выбранной девушки не менее трех раз. Положительного ответа это не гарантировало: насильно замуж не выдавали.
В день свадьбы за невестой приезжал свадебный поезд без жениха. После шуточного выкупа и обряда прощания с родителями девушку доставляли в дом свекрови. Старшая женщина встречала ее медом и маслом, что символизировало пожелание сладкой, сытой жизни. Свадьбы проводили шумные, многолюдные: не менее 200-500 человек, иногда число гостей доходило до тысячи. Не позвать кого-то из родных или знакомых считалось оскорблением, равно как и проигнорировать приглашение. Длились торжества до десяти дней.
На время пира девушку проводили в отдельную комнату, где она находилась всю свадьбу. По другой традиции невестка стояла на протяжении свадебного застолья в углу зала, принимая подарки. Жених находился в доме друга, к невесте приходил на третьи сутки, затем избегание продолжалось до месяца. Заканчивались свадебные обряды выводом девушки к роднику за водой, во время которого она знакомилась с жителями селения.
Внешность

Ингуши относятся к кавкасионскому антропологическому типу европеоидной расы. По мнению исследователей, именно этому народу удалось сохранить наибольшее число аутентичных признаков внешности. К ним относят:
- высокий рост;
- худощавое телосложение;
- жесткие, прямые волосы темных оттенков;
- серые, карие, горизонтально расположенные глаза;
- низкий выступающий подбородок;
- волосяной покров развитый.
Ингушских мальчиков с детства приучали к тяжелым физическим нагрузкам, спорту, джигитовке, обращению с оружием, что делало их физически сильными. Правилами поведения регламентировалась умеренность в еде. Мужчинам налагалось до старости иметь подтянутую фигуру, стыдно было иметь лишний вес, особенно в области живота. Существовала особая проверка стройности: ложась на бок на плоскую поверхность, в области талии необходимо иметь просвет, сквозь который сможет пробраться кошка.
Женская красота ценилась, однако при выборе невесты определяющим были другие качества: ум, смелость, скромность, благородство, честь, трудолюбие, способность к деторождению. Именно последний фактор позволял женщинам, особенно имеющим детей или готовящимся стать матерями, иметь фигуру, далекую от сегодняшних идеалов.
Одежда

Традиционна одежда ингушей общекавказского типа: шаровары, нательная рубаха с высоким воротом на пуговицах, бешмет. На праздники и торжественные мероприятия надевали черкеску, украшенную газырями. Долгое время традиционная для кавказских народов папаха у ингушей имела коническую форму, после распространился вариант с расширенным верхом.
Дополняли наряд поясом, где крепилось холодное оружие, чаще кинжал. С кинжалом связан целый ряд адатов — норм поведения. Кинжал запрещалось без надобности доставать, а достав, не вкладывать в ножны не использовав. Нельзя было в шутку замахиваться оружием. В случае борьбы полагалось наносить удар сверху: этому посвящали длительные тренировки вплоть до глубокой старости.
Женский костюм состоял из белой холщовой рубахи до пола, под которую надевали шаровары. Сверху наряд дополняло распашное платье, праздничный вариант которого шился из дорогих тканей. Подпоясывали костюм поясом из кожи или серебра. Голову покрывали платком или традиционной красного цвета шапкой курхарс, в форме конька с раздвоенным верхом.
Жизнь

Традиционная форма семьи — патриархальная, чаще малая или трехпоколенная. Младший сын оставался жить в отчем доме. Старшие приводили невесток в родительский дом, однако начинали строить свое жилище, если имели возможность. Основа межличностных и общественных взаимоотношений базировалась на уважении старших и почтении предков, которых знали до седьмого колена.
Главой семьи был мужчина, отвечавший за финансовое благополучие, безопасность, защищавший честь родных. Женщина занимала зависимое положение, однако никогда не играла роль прислуги или рабыни. С древних времен ее почитали как мать, дающую жизнь всему сущему. Существовала поговорка: «Мужчина портится — семья портится, женщина портится — весь народ портится». До женщин запрещалось дотрагиваться даже пальцем: противное означало оскорбление, вело к кровной мести. При них нельзя было сквернословить, курить, драться. Преследование кровника прекращалось в их присутствии, женщин и детей не использовали как жертв кровной мести.
Религия

Традиционными религиями ингушей были анимизм, тотемизм, магические верования. Тотемными животными считались волк, медведь, олень. Существовал сложный пантеон божеств, который населяли существа мужского и женского пола. Верховным был бог Дяла, не меньше почитались:
- бог грома и молнии — Села;
- мать воды — Хи-нана;
- богиня плодородия — Тушоли;
- мать ветров — Миханана
- покровитель скотоводства — Галь-Ерда;
- богиня горной местности — Мехканана;
- покровитель охотников, властитель диких животных — Елта;
- мать вьюги — Дарза-нана;
- бог войны — Молдз-Ерда;
- владыка загробного мира — Эштр.
В Средние века в регионе значительно распространилось христианство, о чем свидетельствуют сохранившиеся каменные церкви, кресты. Ислам начинает проникать в регион в XIII-XV вв., однако на равнинах укореняется лишь в XVII-XVIII столетиях, в горах еще позже — в конце XIX в.