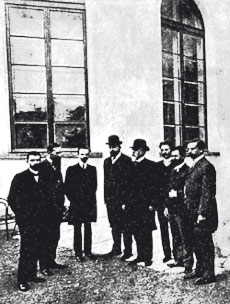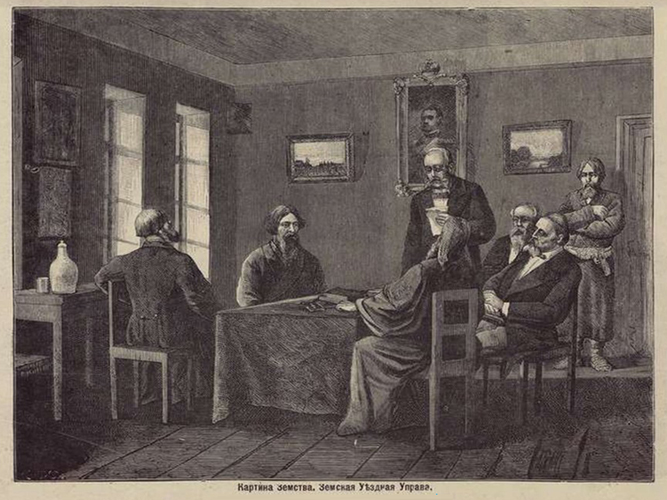Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): сборник статей / Российская академия наук, Институт российской истории; редкол.: Л.Л.Муравьева (отв. ред.), О.Н.Бурдина (отв. секр.). М.: Институт российской истории, 1996. 216 с. 13,5 п.л. 11,3 уч.-изд. л. 300 экз.
Конституционный проект С.А. Муромцева
Автор
Медушевский Андрей Николаевич
Аннотация
Ключевые слова
Шкала времени – век
XIX
Библиографическое описание:
Медушевский А.Н. Конституционный проект С.А. Муромцева // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): сборник статей / Российская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. Муравьева Л.Л. М., 1996. С. 173-196.
Текст статьи
[173]
А.Н. Медушевский
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЕКТ С.А. МУРОМЦЕВА
Представляется актуальным обращение к политической традиции русского конституционализма и прежде всего важнейшим политическим документам – программам конституций, созданным в период революционного кризиса начала XX в.[1] Вызывает споры степень практической готовности конституционалистов к реализации их программы, однако отрицать сам факт ее существования трудно по крайней мере из-за появления в данных кругах первых в России XX в. конституционных проектов[2]. Уже в начале разворачивания революции ведущая либеральная организация России, Союз Освобождения, предпринял важный символический шаг – выступил с проектом конституции, который может рассматриваться как своеобразная программа движения[3]. Тот факт, что Союз Освобождения представлял собой широкую коалицию различных течений (представляющих более и менее радикальные направления внутри самого либерализма[4]), отразился на отношении к данному конституционному проекту, в оценке которого имели место два принципиальных критических мнения[5]. Одни считали будущую конституцию слишком политизированной, преувеличивающей институциональный и процедурный аспекты, другие придерживались мнения, что она пошла слишком далеко от существующего порядка вещей.
Это второе мнение привело к появлению другого проекта, получившего название «конституции Муромцева», который стал теоретической основой последующего конституционного движения в России. Данный проект, вызвавший значительный интерес современников и оказавший несомненное влияние на выработку важнейших законодательных актов российской государственности послереволюционного периода, незаслуженно обойден вниманием в современной науке. В настоящее время нет специальных исследований об этой крупнейшей попытке русских либералов заложить основы конституционной монархии в России. Между тем данный документ составил программ[174]мную основу для российского конституционного движения и, в частности, политической деятельности конституционно-демократической партии в думский период. В июле 1905 г. проект С.А. Муромцева был принят земским съездом «в принципе» и стал затем предметом обсуждения и развития в либеральной публицистике. Данный проект еще лучше, чем предыдущий, отразил взгляды умеренной части конституционалистов – так называемого либерального дворянства. Конституционная модель Муромцева была призвана не столько заменить существующие законы, сколько постепенно наполнить их новым содержанием. Основные идеологические установки русского конституционализма сказались здесь, поэтому наиболее четко: Муромцев (работавший при этом совместно с Кокошкиным – другим виднейшим юристом кадетской партии) ограничил до минимума изменения в существующих законах и максимально оговорил такие изменения более формализованным языком, чем было ранее. В процессе переработки разделов о законодательстве, которые были существенно изменены, авторы проекта сознательно смягчали многие формулировки предшествующего конституционного документа. При этом они руководствовались как общетеоретическими воззрениями, выработанными всей либеральной школой русской юриспруденции, так и соображениями практической политики – стремлением обеспечить эволюционный переход от самодержавия к правовому государству, основным условием существования которого признавалась Государственная дума как важнейший инструмент политических реформ и установление ее контроля над монархической властью (ответственное министерство).
В этой связи целесообразно остановиться прежде всего на тех общих принципах, которые стремились провести авторы проекта, являвшиеся несомненно ведущими русскими специалистами по конституционному праву. Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910 гг.) был представителем старшего поколения русской либеральной интеллигенции, одним из наиболее видных философов и теоретиков права, признанным главой конституционного движения в России, членом и одним из лидеров Кадетской партии, председателем Первой Государственной думы[6]. [175] Профессор Московского университета по кафедре римского права (с 1875 г.). он вынужден был затем (в результате его отстранения от преподавания) оставить научную деятельность и посвятил себя адвокатуре и политике. Изучая право в Геттингене во время научной стажировки в Германию, он познакомился с идеями Р. фон Иеринга, которые затем последовательно развивал в своих трудах. В магистерской диссертации – «О консерватизме римской юриспруденции» (1876) и докторской диссертации – «Очерки общей теории гражданского права» (1877) он отрицал метафизическое и формально-догматическое понимание права как «юриспруденции понятий», отчужденных от реальной жизни и других областей знания и обосновывал (главным образом на материале римского права) необходимость связи права с жизнью как «юриспруденции действительности». В работе «Определение и основное разделение права» он дал цельное понятие права и его элементов, а в ряде других трудов рассматривал роль судьи в творчестве права, дал точное разделение догмы права, истории и политики права. Этот подход выразился в полемической работе «Что такое догма права?». Она стала своеобразным манифестом нового направления в русской теоретической юриспруденция – социологической школы права. В последующей дискуссии с представителями традиционной правовой науки (среди которых можно указать на Гольмстена и Пахмана) были поставлены многие из проблем, обсуждавшихся затем в западноевропейской юриспруденции первой половины XX в. (в трудах классиков современной правовой теории – Г.Кельзена, Б.Эрлиха и др.) в связи с определением точного содержания науки права и основных категорий права. В целом можно констатировать, что созданное Муромцевым направление поднимало значение социальных аспектов правовой науки и уровень судебной практики. Эти идеи нашли дальнейшее развитие в поздних теоретических трудах Муромцева – «Гражданское право древнего Рима» (1883) и «Рецепция римского права на Западе» (1885). Новизна подхода состояла прежде всего в том, что право (вслед за Иерингом) рассматривалась как реализация общественных интересов – влияния племени, рода, [176] семьи, государства, религии и всех общественных явлений, что давало возможность интерпретировать право с привлечением других общественных наук. Однако, в отличие от другого крупнейшего представителя социология права в России – М.М. Ковалевского, Муромцев не перешел целиком к социологии, а оставался юристом как в своих теоретических работах, так и в практической деятельности в качестве адвоката и политика[7]. Все это позволяет рассматривать Муромцева не только как основателя социологии права в России, но и социального деятеля, видевшего свое предназначение в борьбе за право (выражаясь словами Иеринга). Являясь убежденным сторонником конституционной монархии и народного представительства, Муромцев, однако, отвергал некритическое заимствование западных форм политического устройства, считал необходимым их приспособление к российским условиям и политической практике. Этим объясняется общая умеренная направленность его конституционного проекта, принятого большей частью либеральной общественности и просвещенной бюрократии как руководство к действию. Другим наиболее активным участником разработки рассматриваемого конституционного проекта стал представитель молодого (и более радикального) поколения русских конституционалистов – Федор Федорович Кокошкин (1871-1918), вышедший из разночинной среды юрист, общественный деятель и крупнейший эксперт в области государственного права. Наряду с этим, в работе над проектом «Основного закона» принимали участие такие видные деятели земского движения как Н.Н. Щепкин и Н.Н.Львов. Все они, как и сам Муромцев, являлись членами земского организационного бюро. Работа над конституционным проектом велась под руководством С.А. Муромцева сначала в Москве, а затем в его доме в Царицыне.
Конституционный проект С.А. Муромцева был впервые опубликован 6 июля 1905 г. в газете «Русские Ведомости» наряду с составленным им же проектом Избирательного закона под общим названием – «К вопросу об организации будущего представительства»[8]. Эта публикация, сделанная с целью информации широкой общественности с данными документами, [177] не может быть признана, однако, соответствующей современным научным требованиям. Сам обобщающий характер заглавия скрывает два различных и неравноценных по важности документа. Это собственно конституционный проект, не имеющий в газетной публикации особого заглавия и проект избирательного закона. Оба документа напечатаны без указания имени их автора, что часто мешает современным исследователям атрибутировать их. Единственной последующей публикацией данного проекта является его издание в сборнике статей – «Сергей Андреевич Муромцев» (1911 г.), изданном в память о нем[9]. В приложении к этому изданию оба документа представлены под общим названием – «Проект Основного и Избирательного законов в редакции С.А. Муромцева»[10], что также в какой-то степени дает повод для сомнений относительно того, какова была его роль и роль других ученых (прежде всего Кокошкина) в составлении тех или иных положений конституционного проекта. Наконец, мы располагаем индивидуальным печатным экземпляром проекта, сохранившимся в архиве Муромцева и озаглавленном следующим образом – «Проект, напечатанный в газете «Русские ведомости» от 6 июля 1905 г. № 180»[11]. Интересно, что этот документ содержит последующую правку Муромцева, затрагивающую ряд принципиальных вопросов. Частично эти исправления учтены в упомянутом выше издании памяти Муромцева, однако, эта публикация поправок не носит исчерпывающего характера. Таковы основные тексты проекта Муромцева, которыми располагает современный исследователь. Первоначальный рукописный вариант, вероятно, не сохранился (по крайней мере он отсутствует в документах архивного фонда ученого). Существенно дополнить эту картину позволяют источники мемуарного характера, посвященные конституционному движению в целом (воспоминания ряда видных деятелей кадетской партии) и С.А. Муромцеву, его работе над проектом, в частности. Среди них следует особо выделить статьи биографического характера, написанные П.Н. Милюковым, Г.Ф. Шершеневичем, А.А. Кизеветтером, И.А. Кистяковским, Н.И. Астровым, Д.И. Шаховским, М.М. Винавером,
В.Д. Набоковым, С.А. Котляревским, Н.А. Гредескулом. В ряду [178] этик воспоминаний, написанных специально для сборника 1911 г., особое место принадлежит статье Ф.Ф. Кокошкина – «С.А. Муромцев и земские съезды», где дается анализ рассматриваемого конституционного проекта и раскрывается отчасти история его создания[12].
Содержательный анализ конституционного проекта С.А. Муромцева показывает, что он исходил при его составлении главным образом из опыта монархического конституционализма стран Европы, прежде всего Германии, и стремился по мере возможности максимально согласовать их с российской политической традицией. Стремясь обеспечить эволюционный порядок перехода от абсолютизма к конституционной монархии, Муромцев, как и многие другие либералы, считал наиболее целесообразным введение в России конституционного строя путем ряда реформ сверху, последовательно осуществляемых самой монархической властью. Подобная модель политического развития позволяла избежать радикальной революционной ломки всего государственного строя и осуществить легитимный переход к новой (конституционно-монархической) политической системе в рамках существующего законодательства, его последовательного преобразования и наполнения новым политическим содержанием. В теории государственного права данный тип конституционализма противопоставлялся революционным конституциям и получил характерное название октроированных конституций[13]. В истории стран Европы он представлен был во Франции Конституционной Хартией 1814 г., конституциями отдельных германских государств, принятых в первой трети XIX в., и особенно полно в последовательно сменявших друг друга конституционных актах Пруссии 1850 г., Северо-Германского Союза, наконец, конституции Германской империи 1871 г. Подобный тип конституционализма в качестве своей основы и наиболее характерной черты имел монархический принцип. Согласно воззрениям Муромцева именно эта модель конституции в наибольшей степени отвечала российским условиям. В качестве исходного пункта работы над конституцией Муромцеву служил предшествующий конституционный проект «Основного государственного закона Российской империи», [179] составленный в октябре 1904 г. в Москве группой членов Союза Освобождения и напечатанный в марте 1905 г. в Париже П.Б. Струве. Этот первый проект, изданный редакцией журнала «Освобождение», получил широкое распространение в среде либеральной интеллигенции, неоднократно переиздавался (в газете «Право» и сборнике «Конституционное государство») и стал предметом интенсивного обсуждения[14]. Теоретические основания данного проекта и его общая политическая направленность были близки взглядам Муромцева. Однако ряд его существенных положений не отвечал разработанной им стратегии. С точки зрения Муромцева необходима была переработка данного документа в трех отношениях: «а) строгой юридической формулировки положений; б) разработки подробностей; и в) приближения, не в ущерб смыслу, языка проекта к языку, уже усвоенному русским законодательством». Однако за этими формально-юридическими вопросами крылось, несомненно, и стремление к существенной содержательной модификации проекта Струве и группы «Освобождение»[15].
Особое значение для раскрытия взглядов Муромцева на существо конституционного вопроса в России имеет обращение к материалам его архива. Речь идет, в частности, об автобиографической «Записке» Муромцева о первом и втором съездах земских деятелей, датированной 29 июля 1905 г. На этих съездах в качестве центральной проблемы стояло обсуждение вопросов о народном представительстве в России и создании проекта государственного строя. В этой связи Муромцев объясняет свою позицию в отношении предшествующего конституционного проекта и высказывает принципиальные концепционные идеи нового основного закона. «Еще в конце октября прошлого 1904 г, в связи с приготовлениями к ноябрьскому съезду, – констатирует он, – в Москве небольшой группой лиц был составлен проект основного закона Российской империи на конституционно-демократических началах, Этот проект был тогда же распространен в обществе при помощи различного рода множительных аппаратов. Позднее его напечатало на своих страницах заграничное «Освобождение», вследствие чего незнав[180]шие о его действительном происхождении дали ему название проекта Струве»[16]. Данный проект стал предметом обсуждения на первом (ноябрьском) земском съезде в Петербурге и особенно на втором общеземском съезде, состоявшемся 22-26 апреля 1905 г., где проблема разработки основного законодательства стала важнейшим вопросом повестки дня. Результаты дискуссии стали для Муромцева побудительным мотивом при создании нового проекта Основного закона[17]. Муромцев вполне определенно указывает на необходимость избежать двух крайностей – чисто охранительного подхода правительственных кругов и однозначно деструктивной позиции революционного лагеря. По его мнению, обе эти крайности сходятся в одном – неприятии права как способа разрешения социально-политического конфликта. Отсюда – возможность легкого перехода от одной крайней позиции к другой, при котором меняется скорее форма, чем содержание государственной организации[18]. Указанная позиция, вызывавшая своей умеренностью критику даже внутри кадетской партии со стороны наиболее радикальных ее элементов, в длительной исторической перспективе представляется, однако, вполне обоснованной. Отрицание сильной государственной власти в России оказалось деструктивным фактором не только для самодержавия, но и для самого русского либерализма, не имевшего серьезной опоры в ограниченном массовом сознании. Признание этого факта можно найти в сочинениях видных либеральных деятелей послереволюционной эпохи, указывавших, что их основная задача заключалась не в свержении самодержавия, а в обеспечении его эволюционного перехода в конституционную монархию, а основная ошибка кадетов состояла в том, что они «должны были стать посредниками между старой и новой Россией, но сделать этого не сумели»[19]. Отсюда вытекает историческая целесообразность проекта Муромцева, дававшего формулу исторического компромисса самодержавия и конституционализма.
«Проект изложен таким образом, – пишет он, – что мог бы быть включен в Свод законов взамен ныне действующих статей 47-81 первой части первого тома, не затрагивая непосредственно остальных отделов ни первой, ни второй части первого [181] тома Свода и предоставлял уже дальнейшему ходу законодательства дать то или другое выражение влиянию новых начал на старые части законодательства. Во главу проекта поставлен (лишь в новом его выражении) принцип верховенства закона в области государственного управления, т.е. тот же самый принцип, который лежит в основании ныне действующих основных законов (статья 47-я); центр тяжести нового порядка сведен не к вопросу об ограничении власти императора, а к вопросу о правах Государственной Думы и об ответственности перед нею высших представителей бюрократии – министров»[20]. Принципиальное значение проекта Муромцева состояло в том, что он стал общей политической программой всей (как либеральной, так и радикальной) интеллигенции и прогрессивных земских деятелей, объединившихся затем в конституционно-демократическую партию. На учредительном съезде партии в октябре 1905 г. при обсуждения вопроса о желательной форме правления в России, обнаружились два течения – республиканское и конституционно-монархическое. Однако уже на съезде, состоявшемся в январе 1906 г., партия вполне определенно высказалась за парламентарную монархию. Согласно принятой программе партии ее целью являлось установление в России конституционной монархии, при которой «министры ответственны перед собранием народных представителей»; «народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачей голосов», а основой представительства должно было стать широкое развитие местного самоуправления и автономии окраинных областей (особенно царства Польского). На этой основе предполагалось исключительно правовым путем провести решение социальных проблем – аграрного вопроса (увеличение крестьянского землепользования за счет осуществляемого государством выкупа помещичьих земель) и рабочего вопроса (за счет развития рабочего законодательства). Сходные программные принципы объединяли некоторые-другие элементы либеральной интеллигенции, земцев и промышленников в рамках трех других, близких к кадетам небольших партий – прогрессивной партии, партии [182] мирного обновления и партии демократических реформ[21]. Можно сказать, поэтому, что проект Муромцева создал теоретическую основу стратегии политических преобразований всего либерально-конституционного движения России.
«Основной закон» в редакции С.А. Муромцева состоит из 6 разделов и 113 статей, представляя собой достаточно сжатый и четко сформулированный документ[22]. Приоритетные направления законодательного регулирования отражены в названиях разделов: «О законах» (Раздел I); «О правах российских граждан» (Разд. II); «Учреждение Государственной Думы» (Разд. III); «О министрах» (Разд. IV); «Об основах местного самоуправления» (Разд. V); «О судебной власти» (VI). Как показывает уже название первых двух разделов, основной целью Муромцева было создание правового государства. Однако этой цели он стремился достичь по возможности в рамках существующего законодательства или, во всяком случае, с минимальными его изменениями. Этим объясняется, в частности, нежелание Муромцева вносить в конституцию специальный раздел, посвященный определению прерогатив монарха. Этот раздел, типичный для основного законодательства конституционно-монархических государств, имел важное значение для ограничения власти государей. Он был, поэтому, внесен также в проект группы «Освобождение», где выполнял ту же функцию. Отказ Муромцева от сохранения данного раздела может рассматриваться как нежелание слишком четко проводить принцип разделения властей, в частности законодательной и исполнительной. Это предположение подтверждается как будто и отношением Муромцева к судебной власти: из предшествующего проекта Муромцев считал необходимым изъять положение о верховном конституционном суде, учреждение которого представлялось ему практически неосуществимым в России. Данная позиция вызывала критику более радикального течения в русском конституционализме, отдававшего предпочтение первому проекту основного закона именно в силу того, что там принцип разделения властей проводился более четко. Однако, из этого не следует, что Муромцев выступал против последовательного проведения конституционных принципов: отличие его [183] позиции состояло в том, что он считал необходимым не заимствовать их в готовых формулах из западноевропейских конституций, а вывести органически из тех общих начал законности, которые, как ему представлялось, заложены в российском законодательстве. В этом отношении он выступает как последовательный сторонник германской либеральной юриспруденции и, в частности, исторической школы права Ф. Савиньи и Г. Пухты, интерпретировавшей германское право именно таким образом. Данный подход соответствовал и русской либеральной традиции – государственной школы, которая в лице ее основателей и наиболее видных представителей – С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина и А.Д. Градовского сходным образом рассматривала эволюцию российской государственности. В русской юриспруденции конца XIX – начала XX в. существовало мнение, сформулированное наиболее четко Н.М. Коркуновым, что сам факт упорядочения законодательства, последовательное проведение разграничения указа (как чисто административного акта) и закона (как акта, принятого в соответствии с определенной зафиксированной процедурой) является движением от полицейского государства времен абсолютной монархии к правовому государству новейшего времени[23].
Данный подход прослеживается и в проекте Муромцева, считавшего, что необходимые ограничения царской власти, не определяемые в специальном разделе, должны вытекать из разделов конституции, посвященных законодательству, организации народного представительства, исполнительной и судебной власти. Монархическая власть, поставленная в данный политический контекст, неизбежно приобретает ограниченный характер, но в то же время выступает и своего рода верховным гарантом законности и верховенства права. Именно эта идея становится лейтмотивом первого раздела проекта, «Империя Российская, – подчеркивается в первой статье, – управляется на твердых основаниях законов, издаваемых в порядке, сим основным законом установленном». Все остальные положения раздела выводятся из этого основного принципа правового государства. К их числу относятся: порядок взаимоотношения общих к местных законов, которые не должны противо[184]речить друг другу; принцип необратимости закона, порядок издания новых законов только в соответствии с конституцией (ст. 2-4). Важнейшие социально-политические требования эпохи первой русской революции были также оформлены в юридических терминах: это – установление равенства всех перед законом (ст. 10), и закрепление деятельности суда и административных учреждений только в соответствии с законом (ст. 8 и 14), наконец, порядок принятия, обнародования и введения в силу самих этих законов (ст. 6-7, 9, 11). Стремление создать прочные основы правового государства прослеживается особенно в разделе втором – «О правах российских граждан» – представляющем собой хартию демократических прав и политических свобод населения России. В центре внимания – чрезвычайно цельная и емкая концепция прав личности, не зависящих ни от национальных, ни от социальных, ни от конфессиональных характеристик ее места в обществе.
Предложенная в проекте модель будущего государственного устройства России представляла собой конституционную монархию дуалистического типа, главная особенность которой состояла в стремлении совместить сильную исполнительную власть (сконцентрированную в монархе) и развитое народное представительство (как важнейший элемент социального контроля). В центре политической системы оказывается монарх, с одной стороны, и двухпалатный парламент, с другой. Механизм принятия политических решений при этом определяется характером отношений между ними, который не может быть постоянным и, как правило, создает преимущества для исполнительной власти. Данная модель, однако, по мнению умеренных конституционалистов, оказывалась идеальной формой, позволяющей объединить силы либерального общественного движения и передовых элементов бюрократии для осуществления политических и социальных реформ. Отсюда проистекала, однако, и известная имманентная противоречивость проектируемой политической системы, нашедшая свое наиболее полное выражение в модификации классического принципа разделения властей. Он проводится здесь не столь четко как в западных республиканских конституциях, а его трактовка оставляет особый [185] статус для монархической власти. Мы видели, что проект Муромцева не содержал специального раздела о монархической власти. Тем не менее ее прерогативы можно реконструировать по отдельным статьям, рассеянным в других разделах. Монарх обладает всей полнотой исполнительной власти и в то же время играет значительную роль в осуществлении законодательной власти, разделяя ее с парламентом – Думой.
Другим важнейшим компонентом политической системы и, в частности, законодательной власти являлась Государственная Дума, регламентации правого положения которой в проекте Муромцева уделено особенно много места. Посвященный этому вопросу раздел III проекта – «Учреждение Государственной Думы» значительно превосходит все прочие разделы по объему (включая в себя 52 статьи из общего их числа – 113), а кроме того отличается от них большей внутренней деталировкой. Раздел подразделяется на шесть глав, в которые вынесены следующие вопросы: «О составе и порядке образования Государственной Думы» (гл. 1); «О членах Государственной Думы» (гл. 2); «О собраниях Государственной Думы» (гл. 3); «О внутреннем устройстве и порядке занятий Государственной Думы» (гл. 4); «О предметах ведомства и пространстве власти Государственной Думы» (гл. 5); «Особенные правила» (гл. 6). Тот дисбаланс, который вносят данный раздел в конституцию как по объему регулируемых в нем правовых норм, так и по характеру распределенного в нем материала объясняется стремлением авторов проекта совместить в нем по существу два документа – собственно конституционное закрепление места Думы в политической системе и того, что впоследствии было названо «Положением о Государственной Думе», регулирующем ее деятельность как государственного института. Такая концентрация в одном разделе о Думе столь значительного числа норм при отсутствии с другой стороны особого раздела о монархической власти должна была подчеркнуть роль еще не созданного парламента в противовес существующему самодержавному государству. Каков должен был стать российский парламент согласно конституции Муромцева? Ответ на этот вопрос дается в той части документа, где разъяснены орга[186]низационные параметры образования, структуры и состава данного института.
Государственная Дума «образуется собраниями доверием народа облеченных, избранных от населения лиц, призываемых сим избранием к участию в осуществлении законодательной власти и в делах высшего государственного управления». (ст. 36). Эта основополагающая статья показывает, что Дума отнюдь не является единственным носителем высшей законодательной и тем более исполнительной власти в стране, но правомочна лишь к «участию» в законодательной власти и управлении наряду с монархом. Поэтому о разделении властей в собственном смысле слова не может быть речи. Дума представляет собой двухпалатный парламент, подразделяясь на земскую палату и палату народных представителей (ст. 37). Данная структура Думы имела своей целью совместить земское и общенациональное представительство, обеспечив преемственность традиций земских съездов и единство центрального и местного управления. Оригинальность предложенной организации парламента не вызывает сомнений: если первая палата (народных представителей) соответствует аналогичным палатам западных конституций, то вторая (земская) – принципиально отличается от них. Она является представительством общественных союзов (земств и городов), а не феодальной аристократии (как палата лордов или палата пэров) или правящей бюрократии, зависимой от монарха (как Государственный совет в России последующего времени или его аналоги в других конституционно-монархических государствах).
Предвидя возможные способы воздействия исполнительной власти на депутатов, проект подробно рассматривает их статус и четко определяет все нюансы его возможных изменений. В статьях, регламентирующих положение членов Государственной Думы, собраны и проанализированы практически все возможные конфликтные ситуации, известные авторам проекта из опыта западноевропейского парламентаризма. Прежде всего они стремятся к сохранению определенной независимости каждой из палат парламента друг от друга, дающей им возможность осуществлять взаимный контроль и [187] выступать в виде различных инстанций в процессе законотворчества. Отсюда запрещение одному лицу быть одновременно членом обеих палат (ст. 52). Другой линией противоречий могут стать отношения депутатов к их избирателям. Стремясь превратить Думу в орган высшей законодательной власти, авторы проекта специально оговаривают независимость депутатов от конкретных пожеланий их избирателей, «В своих суждениях и решениях член Государственной Думы не может быть связан наказами или указаниями своих избирателей»
(ст. 60). Однако основное внимание уделено возможностям обеспечения независимости членов Думы по отношению к исполнительной власти. В период борьбы за конституционное ограничение монархической власти особенно важно было предотвратить два основных способа воздействия администрации на депутатов -–коррупцию и прямое административное давление.
Проблема законодательной и исполнительной властей рассматривается в проекте Муромцева с точки зрения механизма создания и принятия законодательных актов, прежде всего – утверждения бюджета. Выше уже отмечалось, что право законодательной инициативы при дуалистической форме правления принадлежит как Думе, так и монарху. Тем не менее, Дума имеет приоритетное право на рассмотрения и обсуждения. Согласно разработанной процедуре их прохождения, проекты законов, прежде представления их на усмотрения императора, предлагаются на обсуждение и решение обеих палат Государственной Думы (ст. 82). Законопроекты поступают в Думу из трех инстанций – их вносят министры от имени императора; Палата народных представителей (по предложению не менее 30 своих членов); и Земская палата (по предложению не менее 15 ее членов) (ст. 83). После доработки проекта с учетом замечаний обеих палат и одобрения ими законопроект представляется государственным канцлером императору, который утверждает его (ст. 84). Особенно жесткий контроль Дума осуществляет над принятием актов стратегического характера, которые без ее предварительного утверждения не могут стать законами. Таким образом эта группа актов как [188] бы получает особый статус и зависит от воли монарха в меньшей степени. Проблема контроля над бюджетом имела принципиальное значение для распределения власти между законодательной (парламент) и исполнительной (монарх) властью, начиная с первых попыток создания представительного правления (в ходе английской буржуазной революции) и ее решение предлагали все конституции европейских стран. Можно констатировать даже наличие определенной закономерной тенденции: в соответствии с тем как различные конституции решают проблему утверждения государственного бюджета проходит и распределение власти между основными ветвями власти в системе конституционно-монархического государства. В этом смысле Великобритания дает пример парламентского верховенства, а страны Восточной Европы, в том числе Россия, – ярко выраженный тип дуалистической монархии, на практике часто оказывающийся мнимым конституционализмом. Проект Муромцева уделяет значительное место проблемам законодательного утверждения бюджета и роли различных отраслей власти в его приятии. Характерно, однако, что в весьма детальном перечне контролируемых Думой расходов отсутствует столь важная статья как расходы на армию и флот. Это можно объяснить тем, что они теоретически входят в общегосударственный бюджет и утверждаются вместе с другими статьями государственной росписи. Однако, учитывая внимание, которое уделялось этому вопросу в западных конституциях (где он, как правило, оговаривается специально), трудно предположить, что дело заключается только в этом чисто формальном основании. Скорее можно предположить, что Муромцев просто не хотел предрешать этого вопроса, оставляя его для последующего законодательного регулирования. Дело в том, что во многих государствах с конституционно-монархическим строем (особенно в Германии) монарх оставался главой армии и вопрос о ее финансировании часто вел к острым политическим кризисам (напр., кризис 1862-1864 гг. в Германии). Сознательно избегая оговаривать в переходный период прерогативы власти монарха в области внутренней и внешней политики, Муромцев вынужден был оставить открытым вопрос о финансиро[189]вании армии и государственного аппарата. Единственной формой контроля, которая предусмотрена проектом, является принцип отчетности администрации перед палатами Государственной Думы за расходованием средств (ст. 90). Исходя из эволюционной концепции развития российской государственности, Муромцев должен был, однако, совместить каким-то образом новые и старые властные структуры и сконструировать юридическую формулу их бесконфликтного отношения. Принципиальное значение в этой связи приобретал вопрос о соотношении государственного бюджета и бюджета императорского дома, парламента и правящей династии. Этим объясняется появление в проекте ряда статей, закрепляющих весьма архаичные (по существу чисто феодальные) политические нормы. Так, государственная роспись (бюджет) устанавливается особым законом не более чем на годичный срок. Однако сумма, отпускаемая из государственной казны в личное распоряжение императора и на содержание императорского двора (фактически – цивильный лист), «определяется Государственной Думой в начале каждого царствования и в течение его не может быть изменяема без согласия императора» (ст. 87). В неизменном виде сохраняются все действующие законы, определяющие статус и порядок отношений внутри царствующей династии. Это – Учреждение об императорской фамилии (ст. 82-173-я. Ч.1. Т. 1 Свода законов издания 1892 г.) в его частях о степенях родства в доме императорском (ст 82-90-я); о рождении и кончине членов императорского дома (ст. 90-99-я); о титулах, гербах и прочих внешних преимуществах (ст. 100-119-я); о гражданских правах членов императорского дома (ст. 175-179-я). Все эти нормы, подчеркивается в проекте (ст. 94), могут быть пересмотрены в законодательном порядке не иначе как по указанию императора и, следовательно, находятся вне парламентского контроля.
Одной из центральных проблем при переходе к системе представительного правления являлось установление парламентского контроля над правительством. Обычно указывают на два принципиальных типа такого контроля. Один аз них, про[190]водящий его наиболее последовательно, представлен кабинетской системой (классический пример – Англия), где правительство просто назначается из членов парламента от победившей партии. Другой тип представлея более полно в конституционных монархиях континента Европы, прежде всего – Германия, где он получил своеобразное теоретическое обоснование. Главным его отличием является двойственное положение исполнительной власти (правительства) в политической системе. Правительство назначается здесь монархом и обязано выполнять его волю, но в то же время неизбежно должно считаться в какой-то степени с настроениями, господствующими в парламенте. Это порождает неустойчивость политической системы, баланс которой определяется тем, кто оказывается реальным руководителем деятельности правительства – парламент или монарх. В государствах с длительными традициями сильной монархической власти данное равновесие неизбежно нарушается в пользу монарха. В этих условиях парламент выступает с минимальным требованием установления контроля над правительством, выражающемся в возможности получить отчет о его деятельности и выразить свое отношение к ней (хотя вотум недоверия вовсе не ведет к отставке министров). Эта расстановка политических сил делает крайне актуальным либеральный лозунг «ответственного министерства», под которым понимается правительство, подотчетное парламенту. В данной перспективе становится понятна та часть проекта Муромцева – «О министрах», где регламентируется их политический статус. В его определении хорошо прослеживается двойственность положения правительства. С одной стороны, четко зафиксировано верховенство монарха в его формировании: «Государственный канцлер и, по его представлению, прочие министры назначаются указами императора»; сходным образом (указами императора) они увольняются от должности (ст. 98). Обращает на себя внимание должность государственного канцлера, который является связующим звеном между монархом и министрами. Этот высший чиновник представляет министров для назначения императору, председательствует на совещаниях министров и сам может одновременно [191] занимать должность одного из них (ст. 99). В его лице мы фактически имеем прообраз председателя совета министров последующего времени, сконцентрировавшего в своих руках очень большую власть. С другой стороны, проект Муромцева очень последовательно проводит принцип ответственного министерства. Он различает, собственно, два рода ответственности – индивидуальную и коллективную. В первом случае это ответственность каждого из министров за свои личные действия и распоряжения; за действия и распоряжения подчиненных ему властей, основанные на его указаниях; за скрепленные его подписью указы и иные акты императора (ст. 100). Во втором – речь идет об ответственности канцлера и министров «в совокупности» перед палатами Государственной Думы за «общий ход государственного управления» (ст. 101). В обоих случаях мы имеем дело с политической ответственностью правительства перед законодательной властью. Конкретный механизм осуществления этой ответственности, однако, не раскрывается. В частности, отсутствует даже упоминание о необходимости отставки министра или, тем более, всего министерства, в случае неодобрения их деятельности Думой. Наряду с этим предусмотрена ответственность министров перед гражданским и уголовным законом как должностных лиц в случае нарушения ими при исполнении своих функций законов и прав граждан (ст. 102). В этих случаях (к числу которых отнесено нарушение основного закона, нанесение ущерба государству превышением полномочий, бездействием или злоупотреблением властью) министры могут привлекаться к ответственности каждой из палат Думы и быть преданы суду общего собрания первого и кассационного департаментов Правительствующего Сената. Помилование также осуществляется по ходатайству палаты, решением которой министр был предан суду. Рассмотрение статей об ответственности министров показывает, что авторы проекта сознательно стремились избежать ее формулирования в категориях публичного (или конституционного) права. Политическая сторона возможного конфликта министерства и парламента и возможностей его урегулирования осталась за рамками проекта. Вопрос о политической [192] ответственности сознательно переводится в другую плоскость гражданского и уголовного права. В результате ответственность министров за проводимый политический курс трансформируется в их ответственность как отдельных чиновников за конкретные должностные преступления. Таким образом решение проблемы ответственного министерства (представленной как ответственность министров) отодвигается на будущее.
К числу характерных черт конституционного проекта Муромцева можно отнести разработку в нем теории и практики местного самоуправления. Будучи активным земским деятелем, участником и ведущим идеологом ряда земских съездов, Муромцев считал возможным положить земский принцип в основу организации местного и центрального управления. В какой-то мере эти его идеи могут рассматриваться как выражение программы всего земского движения в России, исходившего, более или менее осознанно, из идеи о том, что будущий российский парламент должен лишь увенчать собой развитое местное земское самоуправление.
Наряду с законодательной и исполнительной властями проект основного закона характеризует судебную власть. Хотя этой теме посвящен особый раздел конституции, нельзя не признать, что судебная власть охарактеризована очень общо. Ей посвящено всего 5 статей проекта. Возможно это связано с представлением о необходимости вынесения вопросов судопроизводства и организации судебных учреждений в особый кодекс. В проекте мы находим скорее лишь определение общего отношения судебной власти к другим ее ветвям. Основной закон подчеркивает неправомерность какой-либо зависимости суда от административных инстанций (столь распространенной на практике). Практика изъятий определенных дел из общей системы судопроизводства категорически отвергается. Проект не предусматривает таких исключений даже для военного или чрезвычайного положения, в нем нет упоминания о возможности чрезвычайных или военно-полевых судов, исключения не предусмотрены даже для должностных лиц (за исключением министров). В дальнейшем (во время и [193] после революции) все эти изъятия становились, как известно, способом проведения репрессивной судебной политики, инструментом исполнительной власти для преодоления независимости судопроизводства от администрации. Таким образом принцип разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной, несмотря на сделанные нами оговорки, проводится в проекте достаточно определенно.
Общие принципы конституционного проекта отражены и в созданном одновременно с ним проекте избирательного закона[24]. Основными его положениями стали: введение четкой процедуры выборов, производимых по законодательно утвержденным избирательным округам большинством голосов избирателей; обеспечение независимости выборов от администрации; общественный контроль над их проведением и определением результатов, публичность и гласность в работе избирательных комитетов и юридическое оформление их прав и обязанностей.
Рассмотрение проекта «Основного закона» С.А. Муромцева позволяет констатировать его значение для разработки общей теории конституционного движения в России. Он представлял собой по существу политическую программу умеренного направления русского либерализма накануне первой русской революции. В нем прослеживается целостная и оригинальная концепция русской государственности, показаны пути перехода от самодержавного строя к конституционной монархии, сконструирован юридический механизм политической реформы. Отталкиваясь от требований радикальных политических течений и доктрин, Муромцев сформулировал ясный и реалистический взгляд на сущность переходного периода и возможности эволюционной трансформации абсолютистской монархии в правовое государство. С этим связана умеренность всего проекта, отсутствие в нем специального раздела о прерогативах императорской власти, допущенные модификация принципа разделения властей и специфическая терминология, максимально приближенная к действующему законодательству. Так, он предпочитает говорить не о конституции, а об «основном [194] законе», не о конституционной монархии, а о верховенстве закона, не о парламенте, а Государственной Думе, избегает таких терминов западных конституций как «цивильный лист» или «ответственное министерство». Тем не менее, содержание проекта показывает, что в его лице мы имеем дело с одним из наиболее цельных и четких программных документов конституционного движения в России. Взяв за основу германскую теоретическую концепцию конституционной монархии, Муромцев максимально переработал ее применительно к условиям Российской империи и переживаемого момента. Отдавая себе отчет в практических трудностях реализации данного проекта в условиях отсталой страны, он, тем не менее, не колеблясь формулирует в качестве перспективной задачи построение гражданского общества и правового государства. Проект Муромцева, поэтому, представляет собой своего рода российскую хартию прав человека, не утратившую значения до настоящего времени. Практическое значение проекта Муромцева также достаточно велико. С одной стороны, он создал теоретическую основу политической деятельности кадетской партии в период формирования и деятельности Государственной Думы. В отличие от практически всех остальных партий в России, кадетская партия оказалась наиболее подготовленной к введению парламента и получила возможность сознательно проводить в нем принципы правового государства. С другой стороны, проект Муромцева оказал несомненное влияние на введенные основные законы, хотя, как отмечали современники, более на их внешнюю форму и редакцию, чем на сущность. По справедливому наблюдению Кокошкина, можно предположить, что влияние это могло бы оказаться гораздо сильнее, если бы конституция была откроирована еще в 1905 г., одновременно с манифестом 17 октября или вскоре после него. Но акты 20 февраля 1906 г., установившие важнейшие положения действующего государственного права, и акт 23 апреля 1906 г., принятый в развитие этих положений, возникли уже в другой политической обстановке, когда правительство после поражения революции получило возможность менее считаться с либеральной оппозицией. [195] Тем не менее признаки влияния проекта С.А. Муромцева (а через него, освобожденческого проекта 1904 г.) можно проследить в ряде постановлений принятых Основных законов, прежде всего – главы восьмой – «О правах и обязанностях российских подданных» и главы девятой «О законах»[25]. Можно, таким образом, считать, что проект Муромцева на определенном этапе создавал основу и возможность исторического компромисса конституционно-либерального движения и монархического правительства, объединения их усилий по преодолению революционного кризиса. Возможность эта оказалась тогда не реализованной. На современном этапе, когда перед обществом стоят во многом сходные проблемы, проект Муромцева, поэтому, продолжает оставаться актуальным.
[195-196] ПРИМЕЧАНИЯ оригинального текста
[1] Медушевский А.Н. Русский конституционализм второй половины XIX – начала XX в. // Первая Российская революция 1905-1907 гг. М., 1991.
[2] Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг.: Организация. Программа. Тактика. М., 1985.
[3] Проект Основного Закона Российской империи. Выработан комиссией бюро общеземских съездов. Paris, 1905.
[4] История буржуазного конституционализма XIX в. М., 1986.
[5] Fröhlich К. The Emergence of Russian Constitutionalism 1904-1905. The Hague, 1981.
[6] Медушевский А.Н. Кем был председатель Первой Государственной Думы? // Генеалогические исследования. М., 1993.
[7] Зорькин В.Д. С.А. Муромцев. М., 1982.
[8] К вопросу об организации будущего представительства // Русские Ведомости (от 6 июля 1905 г.). № 180.
[9] Сергей Андреевич Муромцев. М., 1911.
[10] Проект Основного и Избирательного законов в редакции С.А. Муромцева // Указ. Соч. С. 384-406.
[11] Государственный Архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 575 (С.А. Муромцев).
[12] Кокошкин Ф.Ф. С.А. Муромцев и земские съезды // Сергей Андреевич Муромцев. С. 205-250. В документах архива Кокошкина его работа над конституционным проектом совершенно не отражена: ГАРФ. Ф. 1190.
[13] Политический строй современных государств. СПб., 1905-1906. Т. 1-2.
[14] Основной государственный закон Российской империи: Проект русской конституции, выработанный группой членов «Союза Освобождения». Париж, 1905.
[15] Кокошкин Ф.Ф. Указ. Соч. С. 224.
[16] ГАРФ. Ф. 575. Д. 8. (Записка С.А. Муромцева о первом и втором Общеземских съездах). Л. 3-3 об.; См. также публикацию высказываний Муромцева по конституционному вопросу в издании его трудов «Статьи и речи».
[17] Там же. Л. 3 об.
[18] Там же. Л. 5 об.
[19] Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. London, 1990. С. 246-247.
[20] ГАРФ. Ф. 575. Д. 8. Л. 3-5.
[21] Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Нью-Йорк, 1953. С. 449.
[22] Основной Закон // Сергей Андреевич Муромцев. Сб. статей. Приложение первое. С. 385-400.
[23] Коркунов Н.М. Указ и закон. СПб., 1894.
[24] Избирательный Закон // Сергей Андреевич Муромцев. Сб. статей. Приложение первое. С. 402-406.
[25] Кокошкин Ф.Ф. Указ. Соч. С. 227. См. также: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву, СПб., 1908. Т. 1. (Конституционное право). C. 119-123.
Проект основного закона Российской империи, составленный С.А. Муромцевым. 1905 г.
Предлагаемый проект выражает взгляды российских либералов (правого крыла будущей кадетской партии). Его основным автором является известный правовед Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910). Он был сыном полковника и орловского помещика, окончил юридический факультет Московского университета, служил его доцентом (1875-1877), экстраординарным (1877-1878) и ординарным (1878-1884) профессором, был секретарем юридического факультета (1880-1884) и проректором (1880-1881). С 1870-х гг. входил в Юридическое общество при университете, в 1880-1899 был его председателем, в 1878-1892 был соредактором журнала «Юридический вестник», активно печатался и в других периодических изданиях. Выступал за продолжение Великих реформ. В 1884 Муромцев был уволен из университета министром народного просвещения И.Д. Деляновым, недовольным общественной деятельностью профессора. После этого Муромцев занимался адвокатской практикой, а также был земским и городским гласным в Москве и Тульской губернии, был председателем финансовой комиссии Московского губернского земского собрания. С 1903 г. он участвовал в земском либеральном движении, в 1905 вступил в Конституционно-демократическую партию и был избран в ее ЦК, однако в ее узкое руководство не входил.
В 1906 г. Муромцев был избран в I Государственную думу от Москвы и по предложению кадетской фракции стал ее председателем. Он внес огромный вклад в организацию ее работы и был одним из авторов проекта Наказа (регламента). После роспуска Думы Муромцев подписал (скорее из партийной дисциплины) Выборгское воззвание с призывом отказываться от платежа налогов и исполнения воинской повинности, за что был приговорен к 3 месяцам тюрьмы с лишением избирательных прав.
Предлагаемый вниманию читателей документ был написан Муромцевым с участием другого будущего деятеля кадетской партии, приват-доцента государственного права Московского университета, помещика и земского гласного Ф.Ф. Кокошкина (1871-1918). В основе проекта лежали основные требования кадетов: выборы парламента всеобщим и равным голосованием (с завышением впрочем, представительства городов) и ответственность перед ним правительства. Также бросается в глаза отсутствие постановления о неприкосновенности собственности. В то же время проект подчёркивает роль императора как главы государства и сохраняет формы и ряд второстепенных положений предшествующего законодательства.
Этот документ оказал некоторое влияние (главным образом редакционное) на Основные законы 1906 г., а именно на их главы 8-9. Проект приводится с сокращениями.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. О законах.
1. Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, издаваемых в порядке, сим основным законом установленном.
3. Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме того случая, когда в самом законе постановлено, что сила его распространяется и на время предшествующее.
4. Все издаваемые законы не должны противоречить положениям сего основного закона.
5. Проекты законов исходят от Императорской власти или от Государственной Думы и не иначе получают силу закона, как по одобрении Государственной Думы и по утверждении Императором за собственноручным Его Величества подписанием.
6. Законы обнародуются во всеобщее сведение правительствующим сенатом посредством напечатания в установленном порядке и прежде обнародования в действие не приводятся.
7. Законодательный постановления не подлежат обнародованию, если порядок их издания не соответствует положениям сего основного закона, или когда таковые постановления нарушают в чем-либо точный смысл сего основного закона (ст. 4-я).
8. Судебные установления отказывают в применении законодательных постановлений, хотя бы обнародованных в виде законов, когда таковые постановления нарушают своим содержанием точный смысл сего основного закона (ст. 4-я).
12. Указы и другие акты Императора, последовавшие в порядке верховного управления, обращаются к исполнению не иначе, как по скрепе государственного канцлера или одного из министров, которые своею скрепою принимают на себя за них ответственность.
13. Образ исполнения законов, поскольку не предопределен в самом закон, может быть устанавливаем указами Императора. Указы, дополняющие закон, могут быть издаваемы лишь в случае, если издание их предусмотрено теми самыми законами, которые означенными указами дополняются.
Таковые указы подлежать обнародованию в порядке, для законов определенном (ст. 6 и 7-я).
14. Нарушающее законы распоряжение правительственного места или лица не имеет ни для кого обязательной силы…
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. О правах российских граждан.
15. Условия и порядок приобретения и утраты прав российского гражданства определяются законом.
16. Все российские граждане, не взирая на различие их племенного происхождения, веры, или сословного положения, в отношении их политических и гражданских прав равны пред законом.
17. Все российские граждане свободны в исповедании веры. Никто не может быть преследуем за исповедуемые им верования или убеждения, ни понуждаем к соблюдению религиозных обрядов; никому не возбраняется выход и оставление исповедуемой им веры.
19. Никто не может подлежать преследованию иначе, как в порядке, законом определенном.
20. Никто не может быть задержан иначе, как по основаниям, определенным в законе.
21. Всякое задержанное лицо в городах и других местах пребывания судебной власти в течение 24-х часов, а в прочих местностях империи не позднее как в течение трех суток со времени задержания, должно быть или освобождено, или представлено судебной власти, которая, по немедленном рассмотрении обстоятельств задержания, или освобождает задержанного, или постановляет, с объявлением оснований, о дальнейшем его задержании. Для отдаленных сельских местностей, где соблюдение вышеуказанного срока представится невозможным, он может быть продлен особым законом.
22. Каждый, кому станет известно о задержании кого-либо другого, имеет право заявить с том ближайшему судье, который по такому заявлению исследует наличность законных оснований к задержанию или его продолжению.
23. Никто не может быть судим иным судом, кроме того, которому его деяние во время учинения было по закону подсудно, и подвергнут другому наказанию, кроме того, которое за его деяние во время учинения было законом установлено.
24. Никакие кары, взыскания или ограничения в пользовании правами не могут быть налагаемы на частных лиц какою-либо иною властью, кроме судебной.
25. Без согласия хозяина помещения вход в оное, а равно производство в нем обыска или выемки, допускается не иначе, как в случаях и порядке, законом определенных.
26. Частная переписка и иная всякого рода корреспонденция не подлежит задержанию, вскрытию и прочтению иначе; как по постановлению судебной власти в случаях и порядке, законом определенных.
27. Каждый волен, не снабжая себя паспортом или иным удостоверением личности, в общих пределах, установленных законом, свободно избирать и менять свое местожительство и занятие, приобретать повсюду имущество, движимое и недвижимое, беспрепятственно перемещаться внутри государства и выезжать за его пределы.
Законом может быть ограничено право выезда за границу только в видах предупреждения уклонения от отбывания воинской повинности или от суда и следствия.
28. Каждый волен, в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно обнародовать их и распространять путем печати или иными способами.
29. Никакая цензура не допускается.
30. Все российские граждане вольны собираться как в закрытых помещениях, так и под открытым небом, мирно и без оружия, не испрашивая на то предварительного разрешения.
Условия предуведомления местных властей о предстоящих собраниях, присутствия сих властей на собраниях и обязательного закрытия сих последних, а также ограничения мест для собраний под открытым небом, определяются не иначе, как законом.
31. Все российские граждане вольны составлять общества и союзы в целях, не противных уголовным законам, не испрашивая на то предварительного разрешения.
Условия осведомления власти о составлении обществ и их обязательного, в случаях нарушения ими уголовного закона, закрытия определяются не иначе, как законом.
32. Условия и порядок сообщения обществам и союзам прав юридического лица определяются законом.
33. Все российские граждане имеют право обращаться к государственным властям с ходатайствами по предметам общественных и государственных нужд.
34. Иностранцы пользуются правами, предоставленными российским гражданам, с соблюдением ограничений, установленных в законах.
35. Законом могут быть установлены изъятия из действия статей 21, 27, 28, 30, 31-й настоящего основного закона для лиц, состоящих на действительной военной службе, и для местностей, объявленных на военном положении.
Вне района военных действий военное положение каждый раз может быть вводимо лишь посредством издания о том особого закона на срок не более шести месяцев.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Учреждение Государственной Думы.
Глава первая. О составе и порядке образования Государственной Думы.
36. Государственная Дума образуется собраниями доверием народа облеченных, избранных от населения лиц, призываемых сим избранием к участию в осуществлении законодательной власти и в делах высшего государственного управления.
37. Государственная Дума разделяется на две палаты: земскую палату и палату народных представителей.
38. Земская палата состоять из государственных гласных, избираемых губернскими земскими или областными собраниями и городскими Думами городов, с населением свыше 100,000 жителей.
39. От губерний и областей с населением до 1.000.000 жителей избирается по два государственных гласных, с населением от 1.000.000 до 2.000.000—по три, от 2—3-х милл.—по четыре, свыше 3-х милл.—по пяти. От городов с населением от 100 до 200 т. жителей избирается по одному государственному гласному; от 200 до 400 тыс.—по два, от 400 тыс. до 1 милл.—по три, свыше 1 милл.— по четыре…
40. Государственные гласные избираются из числа лиц, могущих быть народными представителями…
41. Избрание государственных гласных производится в земских собраниях в течение первой очередной их сессии и в городских Думах в одном из первых трех заседаний после обновления их состава; с последовавшим избранием государственных гласных нового состава прекращаются полномочия государственных гласных прежнего состава…
42. Палата народных представителей избирается населением посредством всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования.
43. Право участия в выборах народных представителей принадлежит каждому российскому гражданину мужского пола, достигшему 25-летняго возраста, за исключением: 1) лиц, состоящих под опекой или попечительством; 2) лиц, объявленных несостоятельными должниками, кроме признанных не частными; 3) лиц, лишенных прав по судебным приговорам, на срок такового лишения; 4) лиц, призреваемых в благотворительных заведениях; 5) лиц, состоящих на действительной военной службе, и 6) лиц, занимающих должности губернаторов и вице-губернаторов, чинов прокурорского надзора и полиции.
46. Срок полномочий палаты народных представителей каждого состава четырехлетний, считая со дня открытия первого собрания палаты после ее избрания.
47. Указом Императора палата народных представителей может быть распущена и ранее назначенного в ст. 46-й четырехлетнего срока.
48. Выборы народных представителей… назначаются Императорскими указами на один для всей империи воскресный день. День выборов должен следовать не ранее трех месяцев и не позже шести месяцев по обнародовании указа. В случае досрочного распущения палаты (ст. 47) в указе о распущении должен быть назначен вместе с тем и день новых общих выборов, с соблюдением вышеозначенных сроков.
50. Отведенные палатам за счет государственной казны для занятий здания с прилегающею к ним местностью в черте, установленной особым законом, состоят в исключительном распоряжении самих палат по принадлежности.
<…>
Глава вторая. О членах Государственной Думы.
<…>
55. Состоящие на государственной службе, будучи избраны в члены Государственной Думы, не нуждаются в разрешении своего начальства для вступления в ее состав и для явки в ее собрания.
56. Члены Государственной Думы не могут быть жалуемы чинами, орденами или придворными званиями, а также арендами или какими-либо иными имущественными выдачами.
57. Члены Государственной Думы утрачивают свое звание, если, не состоя на Государственной службе, вступают в оную на должность, сопряженную с чинопроизводством или получением от казны какого-либо оклада содержания, или, если, состоя уже на государственной службе, назначаются на должность высшую по классу, либо сопряженную с получением от казны высшего оклада содержания.
Правило настоящей статьи не распространяется на случай назначения члена Государственной Думы министром.
59. Кроме смерти и случаев, предусмотренных в ст. 52, 53 и 57-й, члены Государственной Думы почитаются также выбывшими при наступлении условий, препятствующих избранию (ст. 40, 43 и 45).
60. В своих суждениях и решениях член Государственной Думы не может быть связан наказами или указаниями своих избирателей.
62. Вне Государственной Думы члены ее не подлежат никакому преследованию или ответственности за поданный при отправлении обязанностей члена Государственной Думы голос, или за выраженные при отправления сих обязанностей суждения.
63. Во время собраний Государственной Думы члены ее не могут быть, без предварительного разрешения подлежащей Палаты, ни привлечены к уголовному следствию и суду, ни подвергнуты домашнему аресту или взятию под стражу по подозрению в совершении преступного деяния, или личному задержанию по несостоятельности, ни вызваны в какой либо суд или иное место в качестве свидетеля или сведущего лица. Из сего исключается лишь тот случай, когда член Государственной Думы будет застигнут при совершении преступного деяния или тотчас после его совершения (п. 1 й ст. 257 уст. угол, суд.), или когда в течение суток по обнаружении признаков преступного деяния (ст. 250 уст. угол, суд.) возникнет против члена Государственной Думы подозрение и основание для принятия против него мер к пресечению способов уклоняться от следствия (ст. 257 уст. угол. суд.). Но и в этих случаях подлежащая палата Государственной Думы должна быть немедленно уведомлена о последовавшем, причем от Палаты, к составу которой принадлежит задержанный член Государственной Думы, зависит утвердить или, наоборот, отменить сделанное распоряжение о задержании.
Возникшее до открытия собрания уголовное производство против члена Государственной Думы, равно как всякого рода лишение его свободы, прерываются на все время собрания, если того потребует подлежащая палата.
64. Члены Государственной Думы получают вознаграждение в размере, определенном законом. Отказ от вознаграждения не приемлется.
Глава третья. О собраниях Государственной Думы.
65. Собрания (сессии) обеих палат открываются, прерываются и закрываются одновременно.
66. Собрания Государственной Думы созываются и закрываются Императорскими приказами.
67. Собрания Государственной Думы созываются ежегодно на третий понедельник октября месяца, если не будет усмотрена надобность в более раннем, в тот год, созыве палат.
После досрочного распущения палаты народных представителей (ст. 47) собрание Государственной Думы созывается не позднее, как спустя два месяца после срока выборов.
71. Перерывы в занятиях собрания не могут воспоследовать без согласного постановления о том обеих палат; такие перерывы не могут быть продолжительнее одного месяца.
Палаты не могут постановить о перерыве своих занятий более чем на десять дней, если министрами будет заявлено против того возражение.
Прекращение занятий, обусловленное соблюдением воскресных, праздничных и иных неприсутственных дней, не почитается перерывом собрания.
<…>
Глава четвертая. О внутреннем устройстве и порядке занятий Государственной Думы.
<…>
76. Заседания обеих палат происходят публично; но, по предложению председательствующего или десяти присутствующих членов, заседание объявляется тайным, после чего палате сообщаются основания, побуждающие требовать тайного продолжения заседания, о чем палата и постановляет свое решение.
78. Решения палат постановляются по простому большинству голосов, за исключением случаев, предусмотренных в статьях 95 и 96-й. Для действительности постановленного решения необходимо участие в голосовании по крайней мере половины законного числа членов палаты…
79. Министры, хотя бы они не состояли членами палаты, имеют, по их должности, право присутствовать во всех заседаниях ее и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых ею вопросов.
До приступа к голосованию, министру, желающему дать объяснение по содержанию обсуждаемого предмета, не может быть отказано в слове.
80. Высшее заведывание охраною порядка внутри принадлежащих палатам зданий и в прилегающей местности (ст. 50-я) принадлежит председателям подлежащих палат или, в случае пребывания обеих палат в черте одной и той же местности, одному из председателей по очереди, на время каждого собрания. В распоряжении председателей состоит для сего в потребном числе особая стража, им исключительно подчиненная.
<…>
Глава пятая. О предметах ведомства и пространстве власти Государственной Думы.
82. Проекты законов, прежде представления их на усмотрение Императора (ст. 84-я), предлагаются на обсуждение обеих палат Государственной Думы (ст. 5-я).
83. Означенные проекты предлагаются Государственной Думе путем внесения их в одну из палат министрами, от имени Императора, или же возникают в среде которой либо из палат по предложению не менее чем 30 членов в палате народных представителей или 15 членов в земской палате. Проект в том виде, в каком он принят в одной из палат, передается в другую. В случае предложения этою последнею поправок он возвращается на рассмотрение палаты, обсуждавшей его первоначально.
84. Одобренные обеими палатами проекты представляются государственным канцлером Императору, располагающему их утверждением.
85. Проекты законов, отклоненные одною из палат Государственной Думы или Императором, не могут быть предлагаемы вновь в течение того же собрания Государственной Думы.
86. Государственные договоры, мирные и торговые, а равно все те, которые сопряжены с установлением для государственной казны обязательств, с изменением границ государственной территории, или исполнение которых требует изменения или дополнения действующих законов, получают силу не прежде, как по одобрении их Государственной Думой в законодательном порядке (ст. 82—84-я).
87. Государственная роспись устанавливается не более, чем на годичный срок, особым законом. Но сумма, отпускаемая из государственной казны в личное распоряжение Императора и на содержание Императорского двора, определяется Государственной Думой в начале каждого царствования и в течение его не может быть изменяема без согласия Императора.
88. Проект государственной росписи предлагается скачала палате народных представителей, от которой, будучи одобрен, передается в земскую палату. Проект росписи, одобренный обеими палатами, представляется Императору (ст. 84-я).
89. Установление податей, налогов, пошлин и иных сборов, государственных займов, принятие государством гарантий, установление штатов, разрешение государственных сооружений, отчуждение отдельных государственных имуществ или доходов, сложение недоимок и казенных взысканий и вообще, установление всякого рода государственных доходов и расходов, если не предусмотрено государственной росписью, может последовать не иначе, как путем издания особого о том закона.
90. Палатам Государственной Думы предлагаются на их рассмотрение и утверждение все отчеты по исполнению государственной росписи.
92. Во время собраний Государственной Думы члены ее имеют право обращаться с запросами как к отдельным министрам, так и к совету министров в целом по предмету образа действий правительства или отдельных правительственных учреждений и должностных лиц. Объяснения по таковым запросам представляются министрами лично подлежащей палате в одном из ее заседаний не позднее определенного палатою срока.
93. Каждая из палат имеет право производить повсеместно расследование чрез посредство избранных ею для того из своей среды комиссий.
94. Учреждение об Императорской фамилии… может быть предметом пересмотра в законодательном порядке не иначе, как по указанию Императора.
Глава шестая. Особенные правила.
95. Если проект закона, принятый одною из палат, будет отклонен другою, или если после возвращения проекта в палату, рассматривавшую его первоначально, с поправками другой палаты и после нового обсуждения такого проекта закона в обеих палатах, не последует согласия решений большинства обеих палат, то каждая из палат имеет право решить о передаче проекта на обсуждение общего заседания Государственной Думы. Такое решение считается состоявшимся, если за него будет по дано не менее двух третей законного числа голосов.
96. Исполнение по решению о созыве общего заседания Государственной Думы приостанавливается впредь до возобновления полномочий народных представителей. После сего в течение трех месяцев по открытии собраний палат вопрос о созыве общего заседания Государственной Думы вторично обсуждается палатою, его возбудившей. Если палата большинством двух третей законного числа голосов одобрит прежнее решение, проект закона передается на обсуждение общего заседания Государственной Думы. <…> Решения общего заседания Государственной Думы принимаются простым большинством голосов и почитаются равносильными согласному решению большинства обеих палат.
97. Если разногласие решений обеих палат последует при обсуждении государственной росписи, и если после вторичного рассмотрения вопроса, возбудившего разногласие, согласие решений большинства палат не будет достигнуто,—спорные вопросы вносятся на обсуждение общего заседания Государственной Думы, не выжидая возобновления полномочий народных представителей и без постановления о сем палат…
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. О министрах.
98. Государственный канцлер и, по его представлению, прочие министры назначаются указами Императора.
Таковыми же указами означенные лица увольняются от должности.
99. Государственный канцлер председательствует в совещаниях министров; звание государственного канцлера совместимо с управлением одним из министерств.
100. Каждый министр в отдельности ответствует: 1.) за свои личные действия или распоряжения; 2) за действия и распоряжения подчиненных ему властей, основанные на его указаниях; 3) за скрепленные его подписью указы и иные акты Императора.
101. Государственный канцлер и прочие министры в совокупности ответствуют перед палатами государственной Думы за общий ход государственного управления.
102. За совершенные при отправлении должности нарушения законов или прав граждан министры подлежать гражданской и уголовной ответственности.
За умышленные нарушения постановлений сего основного закона и за нанесение тяжкого ущерба интересам государства превышением, бездействием или злоупотреблением власти министры могут быть привлекаемы каждою из палат Государственной Думы к ответственности, с преданием суду общего собрания первого и кассационных департаментов правительствующего сената.
103. Помилование осужденного министра может последовать не иначе, как по ходатайству той палаты, постановлением которой он предан суду.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. Об основах местного самоуправления.
104. Области, губернии, уезды и волости или соответствующие им деления образуют самоуправляющиеся союзы, именуемые земствами. Города образуют самоуправляющиеся общины.
106. Местное самоуправление низших союзов имеет быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом голосовании. Каждое лицо, имеющее право участия в выборах в палату народных представителей, имеет право такого же участия в местных выборах, если оно прожило в данном месте — уезде или городе — не менее одного года, или в течение того же срока уплачивало местные земские или городские сборы. Собрания высших самоуправляющихся союзов могут быть избираемы собраниями низших таковых же союзов.
<…>
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. О судебной власти.
109. Места и лица, отправляющие правительственную (административную) власть, не могут быть облекаемы судебною властью.
110. Судебный установления не могут быть в подчинении иной власти, кроме судебной.
111. Судьи не могут быть, против своего желания, ни увольняемы, ни перемещаемы, ни устраняемы от исполнения должности, иначе как по постановлению подлежащего суда и по основаниям, в законе определенным.
112. Никакие изъятия из общего порядка уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей, по роду преступлений, не допускаются, исключая случая, предусмотренного в статье 102-й настоящего закона. Должностные лица за нарушения законов и прав граждан, совершенные при отправлении служебных обязанностей, подлежат судебной гражданской и уголовной ответственности на общем с прочими гражданами основании; для привлечения должностных лиц к суду не требуется ни заключения, ни предварительного согласия их начальства.
113. Никто не устраняется от внесения в списки присяжных заседателей на основании своего имущественного или общественного положения.
Избирательный закон[1].
Конституционные проекты в России XVIII — начала XX века. М, 2010
[1] Не приводится. Предусматривал избрание 840 депутатов (от губерний – 1 от примерно 150 тыс. жителей, от городов – 1 от примерно 100 тыс. жителей) по мажоритарной системе с двумя турами.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
АДВОКАТ, ПРОФЕССОР
Сергей Андреевич Муромцев —
председатель
Первой Государственной Думы
Материал
рекомендуется использовать для подготовки
уроков по теме «Россия между первой революцией и
Первой мировой войной. I Государственная Дума». 9,
11 классы
Осенний день 7 октября 1910 г. выдался
на редкость солнечный и надолго запомнился
москвичам. В течение нескольких часов по
центральным улицам и площадям Первопрестольной
двигалась огромная траурная процессия. Такой
массовой манифестации Москва, пожалуй, не знала
со времён Первой русской революции. Студенты,
стоявшие с двух сторон цепью, порой с трудом
сдерживали натиск многотысячной толпы. В ней
можно было встретить и молодых людей, и убелённых
сединой респектабельных господ, и чиновников, и
учителей, и врачей, и торговцев, и рабочих. Чтобы
получше всё разглядеть, молодежь забиралась даже
на деревья, иные наблюдали за происходящим из
открытых окон собственных квартир. Полиция тоже
присутствовала, но вела себя незаметно, не
вмешиваясь. Десятки колесниц везли венки с
траурными лентами. В центре не работали магазины,
учебные заведения.
Тысячи москвичей провожали в последний путь
благороднейшего человека, чьё имя тогда знала
вся просвещённая Россия, известного
общественного деятеля, адвоката, профессора —
юриста с мировым именем, председателя I
Государственной Думы Сергея Андреевича
Муромцева.
Медленно двигаясь с 9 часов утра от дома на
Сретенском бульваре, траурная процессия
остановилась у Московской городской думы, где её
встречали городской голова Н.И. Гучков с членами
городской управы и гласными, сопровождавшими
скорбный кортеж до университетской церкви. Там
состоялись заупокойная литургия и панихида. Из
храма гроб с телом покойного выносили
представители именитой профессуры Московского
университета, в том числе знаменитый историк
В.О. Ключевский, биолог Д.Н. Анучин, ректор
А.А. Мануйлов. В третьем часу дня процессия
двинулась от Моховой через Москву-реку в сторону
Донского монастыря. Там на новом кладбище у храма
и состоялось последнее прощание. К могиле
допустили лишь небольшую часть участников
похорон. Один за другим брали слово ораторы как
с хорошо известными именами (Н.И. Астров, Ф.А.
Головин, П.Н. Милюков и др.), так и мало знакомые
широкой публике. Покойного по праву называли
«первым гражданином России». Некоторые речи
прерывались представителем полиции, бдительно
пресекавшим политические выступления
антиправительственного характера.
 |
С.А. Муромцев.Около 1860 г. |
Многим из присутствовавших на траурной
церемонии глубоко запали в душу проникновенные
слова юриста Фёдора Фёдоровича Кокошкина,
депутата I Государственной Думы от Москвы:
«Сергей Андреевич Муромцев принадлежал России,
но ещё раньше — и прежде всего — он принадлежал
Москве. Москва ценила его и гордилась им ещё
тогда, когда значение его было многим неясно. Ибо
Сергей Андреевич был явлением пророческим в
нашей жизни. Он не только учил нас началам
правового государства, но и предсказывал их
осуществление, предсказывал не словами, нет, — но
сам собою, своею личностью, всем существом своим.
В те времена, когда самая мысль о народном
представительстве в России казалась многим
бредом, люди проницательные, видя его в
Московской городской думе, в московском земстве,
могли предугадать, что представительный строй
близится к нам. Ибо уже тогда в лице Сергея
Андреевича мы имели народного представителя, и
даже более того — главу представительного
собрания. Пророчество сбылось. Москва помнит ту
минуту, когда она отказывалась от своих
исключительных прав на Муромцева, когда она
отдавала его всей России…»
Слова Ф.Ф. Кокошкина справедливы: хотя родился
С.А. Муромцев в Петербурге, большую часть жизни он
провёл в Москве. Происходил он из потомственной
дворянской семьи и живо интересовался своими
предками. Занимаясь генеалогическими
изысканиями, Сергей Андреевич проследил корни
Муромцевых до начала XVII в., выявив первого
известного по имени представителя рода —
некоего Афанасия.
Фамилия же Муромцевых (в средневековых
документах иногда употреблялся ещё один вариант
её написания — Муромцовы) известна с ещё более
древних времен. В середине XV в. Троице-Сергиев
монастырь получил от боярина Григория
Фёдоровича Муромцева два села в Московском уезде
— Никольское (оно же Муромцево-Конотеребово) и
Фёдоровское. Неизвестно, находился ли с ним в
родственных отношениях некто «Мишута Иванов сын
Муромцева» — землевладелец Галицкого уезда,
также подаривший монастырю свою деревню в самом
конце XV в.
В «Синодике по убиенным во брани» (рукопись
середины XVII в.) упоминаются два представителя
служилого дворянского рода Муромцевых: Павел
Михайлович, сын «Муромцова», погибший в 1552 г.
при взятии Казани, а также, очевидно, его брат
— Григорий Михайлович, убитый при осаде поляками
Великих Лук в 1581 г. и владевший поместьями в
Коломенском уезде. Быть может, они относились к
числу предков С.А. Муромцева.
Фамилия Муромцевы явно происходит от названия
старинного русского города на р. Оке – Мурома.
Далеко не сразу она приобрела такую форму. В
конце XVI в. муромских вотчинников Апраксиных в
документах перед именами называли по
происхождению «муромцами», как и других выходцев
из Мурома, например род «Степана Муромца
Медведевых», известный по поминальной записи
синодика Валаамского монастыря. Добавление
суффикса «ев» при именовании их потомков
завершило оформление фамилии Муромцевых,
встречающейся с давних времён и в самом
Муроме. В указной грамоте Ивана IV от 9 мая 1543 г.
упомянут, в частности, муромский городовой
приказчик Иван (Ивашко) Муромцов. Самого Сергея
Андреевича, считавшего Муром своим фамильным
городом, кое-кто в шутку называл потомком
былинного богатыря Ильи Муромца.
Традиционным делом дворян Муромцевых была
военная служба. При царе Василии Шуйском
в обороне Москвы от войска Лжедмитрия II
участвовал Семён Афанасьевич Муромцев, о чём
говорится в более позднем документе 1622 г. Его
сыну, тоже носившему имя Семён, в 1669 г. были
пожалованы за верную службу села Бурково, Козино,
Корчагино, Муратово, Слухово. Владения
Муромцевых с XVII в. находились в основном к югу
и юго-западу от Москвы. Следующий представитель
рода — Никита Семёнович, будучи стольником, в 1700
г. «менял землю по деловой записи». Его сын
Алексей, родившийся в 1682 г., проявил себя на
военном поприще, дослужился до чина бригадира и
вышел в отставку в 1739 г. Прадеду Сергея
Андреевича — Никите Алексеевичу Муромцеву из-за
болезни не довелось долго прослужить в армии.
Подпоручик Преображенского полка, получивший
отставку в 1762 г., он вёл жизнь богатого
помещика Медынского уезда Калужской губернии,
где находилось их родовое имение Дудино. У него
имелись поместья также в Тульской, Орловской,
Смоленской и других губерниях. Женат он был
дважды, причём первым браком — на Елизавете
Суриной, фрейлине императрицы Елизаветы
Петровны, и обладал весьма крутым нравом. В
противоположность отцу, сын его, Алексей Никитич
(1769—1838) — мягкий, очень добрый человек, в чине
секунд-майора Московского гренадерского полка
участвовал в походах в Молдавию и Финляндию; уже
находясь в отставке, во время Отечественной
войны 1812 г. записался в ополчение. Женился он в
1800 г. на дворянке Черниговской губернии
Прасковье Семёновне Уманец и жил до самой смерти
в имении Предтечево Тульской губернии. У них было
14 детей, самый младший, Андрей, 1818 г. рождения,
был отцом С.А. Муромцева. Из братьев ближе
других ему были Семён и Виктор. Семён Алексеевич
оказал впоследствии огромное влияние на
формирование личности своего племянника Сергея.
 |
С.А. Муромцев — председатель
|
Муромцевы отличались весёлым нравом,
врождённым чувством юмора, взаимной
сплочённостью и дружбой, благожелательным
отношением к людям, в том числе к своим
крестьянам, в отношении которых задолго до
отмены крепостного права обычно не применяли
телесных наказаний. Среди них было немало
одарённых от природы личностей. Все мальчики, как
правило, проявляли во время учёбы особую
склонность к занятиям математикой.
Мать С.А. Муромцева Анна Николаевна (1822—1901)
происходила из дворянских родов Борщёвых и
Костомаровых. Последние, в отличие от Муромцевых,
придерживались весьма строгих нравов, были
крайне замкнутыми и необщительными. Отец Сергея,
Андрей Алексеевич Муромцев (1818—1879), по семейной
традиции получив военное образование, служил
офицером лейб-гвардии Московского полка. В его
казармах на Фонтанке в Петербурге 23 сентября
1850 г. и появился на свет будущий первый
председатель Государственной Думы. Вскоре
Андрея Алексеевича произвели в полковники и
назначили командиром 2-го гренадерского
запасного полка.
На протяжении 1855—1858 гг. семья часто
переезжала вместе с передислоцировавшимся
полком: из Петербурга в Новгородскую губернию,
оттуда — в Углич на Волге, затем в Опоку
Псковской губернии. Наконец, не дослужив два года
до генеральского звания, в 1858 г. А.А.Муромцев
подал в отставку и приобрёл имение Лазавку
Новосильского уезда Тульской губернии, в 40
верстах от родового поместья Предтечево, где у
него, в отличие от старших братьев, не было
усадьбы.
До приобретения собственного семейного гнезда
Муромцевы обычно проводили лето в Харине —
богатом имении Александры Михайловны
Костомаровой, бабушки Сергея Андреевич по
материнской линии, женщины строгой, властной и
энергичной, державшей в покорности свою взрослую
замужнюю дочь. Харино находилось в Крапивенском
уезде той же Тульской губернии. Частые переезды в
старинной фамильной карете хорошо запомнились
юному Сергею. Запомнились ему и живые рассказы
деда со стороны матери, отставного генерала
Николая Андреевича Костомарова о событиях
Отечественной войны 1812 г. и заграничном походе
русской армии в Европу, в котором тот участвовал
совсем молодым офицером.
В отличие от костомаровского Харина, в ставшей
родной Лазавке юный Сергей, его брат Николай и
сёстры могли вести себя более раскованно и
свободно, не боясь строгого взгляда или окрика
бабушки Александры Михайловны. Дочь же её Анна —
мягкая и робкая женщина — всё своё время уделяла
семье. До Сергея она родила троих детей, умерших в
возрасте до двух лет. Перед его рождением Анна
Николаевна, отправившись в Троице-Сергиеву
лавру, долго молилась, прося у святого Сергия
даровать долгую жизнь её следующему ребёнку,
которому пообещала дать его имя.
|
|
Президиум I Государственной ДумыС.А. Муромцев — четвёртый справа |
Ставший всеобщим любимцем в семье,
Серёжа с детства отличался красотой,
любознательностью и большими способностями.
Привязанность к матери, много занимавшейся с
детьми, он сохранил до конца её жизни. Будучи уже
взрослым и женатым человеком, Сергей Андреевич
по-прежнему занимал в материнском доме в Москве в
Скатертном переулке отдельную комнату, хотя это
и создавало для него определённые неудобства. А
позднее в 1896 г. семидесятипятилетняя Анна
Николаевна переселилась к любимому старшему
сыну в Штатный переулок на Пречистенку. В
характере отца, Андрея Алексеевича, была
природная сдержанность, внешняя холодность и
застенчивость сочетались с вспыльчивостью; дети
его побаивались, хотя он их никогда не наказывал
и любил не меньше матери. Готовя Сергея и других
детей к поступлению в гимназию, отец немало
внимания уделял арифметике.
Будучи старшим и обладая даром воображения,
Сергей обычно был заводилой во всех детских
начинаниях. Его игры, со временем приобретавшие
всё более сложный характер, продолжались и в
гимназические годы. Особенно запомнились
близким Сергея Андреевича (в частности, его брату
Николаю) игры в «государство», железную дорогу и
издание ежедневной рукописной газеты (причём
инициатору было девять-десять лет).
«Конституционное государство Лазавка», главой
которого, конечно же, являлся сам Серёжа, имело
парламент с верхней и нижней палатами —
«Государственным советом» и «Палатой
депутатов», размещавшимися в двух беседках сада.
Ну, а резиденция главы располагалась в
помещичьем доме. Позднее Сергей написал
«историю» своего «государства», насыщенную
разнообразными событиями — завоеваниями
соседних территорий, династическими браками,
строительством городов и реформами. После
переезда в Москву эта «государственная»
деятельность велась лишь в летние месяцы, когда
семья выезжала в имение. В Лазавке с увлечением
играли и в железную дорогу с воображаемыми
поездами, расписанием, станциями. С
ответственностью относился Сергей и к выпуску
ежедневной семейной газеты. Её очередной номер,
заполненный реальными домашними известиями,
готовился вечером и раскладывался наутро на
столе перед местом, которое обычно занимал во
время чаепития отец. Так уже в детстве постепенно
формировались многие черты характера и будущие
интересы Сергея Андреевича. В Лазавке семья жила
постоянно до 1860 г., когда десятилетнего Сергея
пришло время отдавать в гимназию. И Муромцевы
переехали в Москву, где поселились в Скатертном
переулке, в доме, принадлежавшем родителям Анны
Николаевны.
 |
Плакат «Царь и народ».
|
Учёба в гимназии не требовала от весьма
способного Сергея значительных усилий и особого
прилежания. Он вполне довольствовался ролью
второго-третьего ученика в классе, хотя родители
ожидали от него большего. Единственная и
случайная неудовлетворительная оценка по
латинскому языку как-то стала домашней
трагедией. Сознавая своё положение и стремясь
оправдать надежды близких, Сергей подтянулся в
последнем классе и в 1867 г. закончил 3-ю
московскую гимназию с золотой медалью.
В гимназические годы он страстно полюбил театр.
На всю жизнь Сергей запомнил день 28 декабря
1860 г., когда его с братом Николаем впервые
повезли в Москве в Большой театр, на сцене
которого шла пьеса «Старый капрал». Чуть позже
Сергея стали брать в Итальянскую оперу. В Малом
театре на него неизгладимое впечатление
произвели две пьесы — «Горе от ума» с участием
знаменитого М.Н.Щепкина и «Ревизор». Первую из
них он долгие годы помнил практически всю
наизусть. Впоследствии и сам пытался сочинять
небольшие пьесы и оперные либретто. У Муромцевых
нередко устраивались и домашние представления.
Маленький Сергей сооружал на столе сцену, где
книги служили декорациями, коробки и шашки —
актёрами, которых передвигал и озвучивал он сам,
выполняя также функции режиссёра.
В юношеские годы в просторном зале дома бабушки
стали ставить уже настоящие спектакли, чему
предшествовали тщательный отбор
драматургических произведений и репетиции.
Порой текст избранных для постановки пьес
подвергался строгой домашней цензуре, никакие
вольности не допускались. Однажды поставили
пьесу «Жених-мандарин» Н.В. Муравьёва,
будущего министра юстиции, учившегося в
университете на курс младше Сергея Андреевича и
женившегося на его двоюродной сестре Александре
Викторовне Муромцевой. Как вспоминали родные,
Сергей был душой театральных затей. Любовь к
театру он сохранял на протяжении всей жизни.
Становление мировоззрения Сергея Муромцева
происходило в годы общественного подъёма,
вызванного буржуазными реформами 60-х — начала
70-х гг. Огромное влияние на формирование его
жизненной позиции оказал дядя, брат отца — Семён
Алексеевич Муромцев. Их переписка продолжалась и
после того, как племянник, получив
университетское образование, стал профессором
Московского университета.
В Новосильском уезде Тульской губернии, где
находилось его имение Предтечево, Семён
Алексеевич пользовался огромной популярностью
среди населения как образованный, авторитетный и
справедливый человек, защитник обездоленных.
Так, он зарекомендовал себя в качестве мирового
посредника в период проведения крестьянской
реформы и чуть позже на должности мирового судьи.
Деятельность дяди, прослывшего вольтерианцем и
вольнодумцем, стала примером для племянника,
немало почерпнувшего от многолетнего общения с
Семёном Алексеевичем. Именно от него Сергей
Муромцев усвоил ещё в юности критическое
отношение к действительности, смелость в
отстаивании своих взглядов, в преодолении
отжившего старого. Вот какую оценку роли Семёна
Алексеевича дал в письме к нему сам Муромцев в 1878
г., приступая к изданию «Юридического
вестника»: «Каждый раз, милый дядя, когда мне
приходится браться за новое дело и вести его с
борьбой против всяких предрассудков, невежества,
пошлости, предо мною восстаёт Ваш образ,
служивший мне символом борьбы за правду. С самого
детства я привык видеть в Вас человека, который
ставил своею жизнью такую борьбу и имел
достаточно мужества и перед властью, и перед
толпою (которая подчас бывает опаснее власти),
чтобы делать своё дело до конца, как следует».
Именно под влиянием Семёна Алексеевича Сергей
решил стать юристом и посвятить свою жизнь науке.
Близок ему по духу был и брат Владимир (сын дяди),
о чём красноречиво свидетельствуют строки из
переписки с кузеном: «Я люблю Тебя больше других
двоюродных братьев и дружен с Тобой, как ни с кем
из товарищей… Я всегда говорил с Тобой обо всём и
редко что скрываю».
 |
Урна для голосования.1906 г. |
Тесные узы связывали Сергея Андреевича
и с родными братом, да и с сёстрами. Сёстрам он в
старших классах гимназии нередко давал уроки,
специально навещая для этого бабушку, у которой
те тогда жили.
Во многом благодаря дяде ещё в годы обучения в
гимназии Сергей Муромцев проявил серьёзный
интерес к системе российского судопроизводства
и после введения новых судебных уставов 1864 г.
долго уговаривал отца выдвинуть свою
кандидатуру на выборах председателя
Новосильского съезда мировых судей. В Москве в
свободные от занятий часы гимназиста можно было
увидеть на заседаниях окружного суда, где он
внимательно следил за ходом наиболее интересных,
на его взгляд, судебных процессов. Интересовала
молодого Муромцева и деятельность Московского
губернского земского собрания, прения в ходе
обсуждения особенно важных и полезных
постановлений. Так, задолго до окончания
гимназии он вполне осознанно и твёрдо сделал
свой жизненный выбор, считая юриспруденцию и
самым подходящим для себя, и весьма нужным людям
занятием. Вопреки семейной традиции его совсем
не привлекала перспектива военной службы.
Рано проявившийся интерес к государственному
праву привёл Сергея Муромцева в 1867 г. на
студенческую скамью юридического факультета
Московского университета. На первых двух курсах
его интересовали не только специальные предметы
(энциклопедия права, статистика и др.), но и
блистательные лекции знаменитого историка
С.М.Соловьёва, способствовавшие укреплению
«западнических» настроений будущего первого
председателя Государственной Думы. В конце
второго года обучения он, решив посвятить себя
научной деятельности, а не практической работе в
качестве адвоката, прокурора или судьи, составил
систематический план энциклопедического
самообразования. В нём немало места отводилось —
наряду с государственным правом, историей,
политической экономикой — естественным наукам
(математике, физике и др.). Из-за нехватки времени
и необходимости сконцентрировать все силы на
изучении юриспруденции полностью выполнить
намеченное ему, однако, не удалось.
Сохранившиеся воспоминания университетских
товарищей позволяют создать более полное
представление о Муромцеве-студенте,
сравнительно быстро завоевавшим авторитет у
однокурсников. Постепенно он сблизился с будущим
министром юстиции Н.В.Муравьёвым и князем
Л.В.Шаховским, но лучшим его приятелем был также
носивший княжеский титул Л.С.Голицын. На третьем
курсе университета друзья, прослушав
превосходные лекции по римскому праву всегда
остроумного профессора Н.И.Крылова, вскоре стали
его самыми любимыми учениками. Активно
участвовали они и в деятельности студенческого
кружка, рассматривавшего на своих примерных
судебных заседаниях уже решённые уголовные дела,
полученные при содействии профессуры из
окружного суда. Функции его председателя обычно
выполнял Сергей Муромцев, готовивший себя,
правда, как уже упоминалось, к научной карьере. Он
ещё в 1869 г. в записной книжке наметил её
основные вехи: защита магистерской диссертации
через 6 лет, чтение лекций, а затем спустя
некоторое время отставка «за распространение
либерализма». Став с юности либералами по
убеждениям и отдавая приоритет законам в
исправлении недостатков общества, Муромцев и его
ближайшие друзья были далеки от революционно
настроенного студенчества.
Быстро пролетели четыре университетских года,
а с ними и юношеские увлечения, и первая
серьёзная любовь, и последовавшее за ней
разочарование в любимой девушке, надолго
отсрочившее женитьбу С.А.Муромцева. В июне 1871
г. он был утверждён Советом Московского
университета в степени кандидата права «за
отличные успехи», а немногим позже оставлен при
нём (правда, без оплаты содержания) для
подготовки к профессорскому званию. До этого
жить ему предстояло на средства (200 руб. в год),
выделяемые отцом. Около года он провёл в имении
Зяблицкий погост Владимирской губернии,
принадлежавшем Л.С.Голицыну. Там, продолжая
серьёзные научные занятия, Сергей Андреевич не
мог не обратить внимания на повседневную жизнь
помещиков и крестьян, отстаивая в меру сил и
возможностей справедливость. С помощью друга ему
удалось уговорить отца отпустить его в 1873 г. за
границу для продолжения образования. По пути к
главной цели путешествия — Германии — Муромцеву
довелось проезжать через Константинополь, Афины,
посетить Италию, Австрию. Один семестр он
отзанимался без особого, кажется, интереса в
Лейпцигском университете, а вот в Геттингене на
него произвели неизгладимое впечатление лекции
профессора Рудольфа фон Иеринга,
основоположника социологического направления в
европейском правоведении.
 |
Высочайший манифест
|
По возвращении из зарубежной поездки,
значительно обогатившей его кругозор, Сергей
Андреевич защитил в 1875 г. диссертацию «О
консерватизме римской юриспруденции», получил
степень магистра гражданского права и стал
доцентом родного юридического факультета
Московского университета. В 1876-м ему присвоили
чин надворного советника, а годом позднее
последовала успешная защита докторской
диссертации «Очерки общей теории гражданского
права». Обе диссертации были сразу же
опубликованы в виде отдельных монографий.
Следующие вехи в его послужном списке —
экстраординарный и ординарный профессор кафедры
римского права (1878), проректор Московского
университета (1880—1881). Одна за другой издавались
новые книги С.А.Муромцева: «Определение и
основное разделение права» (1879), «Гражданское
право Древнего Рима» (1883), «Рецепция римского
права на Западе» (1886). Кроме них из-под его пера
выходили десятки статей, заметок, рецензий. Всего
список печатных работ С.А.Муромцева насчитывает
свыше 180 наименований. Наряду с напряжёнными
научными исследованиями он постоянно читал в
университете лекции и, по отзывам слушателей, был
прекрасным оратором.
Его научные взгляды сформировались во многом
под воздействием философского позитивизма и
позитивистской теории права. В рамках последней
во второй половине XIX в. возникли два
направления — юридический позитивизм, носивший
формально-догматический характер, и
социологический позитивизм, включавший
психологическую теорию права. В отличие от
юридического позитивизма, который рассматривал
право как самодовлеющую форму, оторванную от
содержания, социологический позитивизм не
ограничивался догмой права, стремясь понять его
внутреннюю суть в связи с социальными явлениями.
Сергей Андреевич, став одним из основателей
этого нового оригинального направления
буржуазной социологической юриспруденции, смог
существенно обогатить правовую науку на базе
позитивистской философии. Его заслуги в этой
области признавались даже советскими юристами.
Муромцевым задолго до ряда крупнейших
зарубежных правоведов, ещё в 1870-х гг. была
выдвинута концепция социологического изучения
права с применением функционального и
историко-сравнительного методов. Его
теоретические изыскания были тесно связаны с
жизнью — с действовавшей в России после 1864 г.
правовой системой, нуждавшейся в дальнейшем
усовершенствовании в духе идей либерализма. Вот
почему Сергей Андреевич в своих научных трудах
оправдывал тогда либеральное судейское
правотворчество как один из путей становления
российского правопорядка. Для него, убеждённого
сторонника верховенства права, был
категорически не приемлем
формально-догматический подход, оторванный от
контекста общественной жизни. И хотя взгляды
Муромцева в чём-то противоречивы, их без
преувеличения можно отнести к лучшим
достижениям не только отечественной, но и
мировой правовой науки того времени. Вместе со
своими сторонниками он боролся против
превращения правоведения в
формально-догматическую дисциплину, тем самым
расходясь с последователями юридического
позитивизма.
Далеко не все из российских правоведов
соглашались с воззрениями С.А.Муромцева, нередко
он вступал (порой с излишней горячностью и
резкостью) в полемику со своими оппонентами. Но
надо отдать ему должное: изложив основные
положения своей концепции в магистерской и
докторской диссертациях, т.е. на заре научной
деятельности, он не изменял им всю последующую
жизнь. Уже первые его печатные юридические труды
отличались высочайшим уровнем философских и
исторических обобщений, что сразу же создало ему
огромный авторитет в учёных кругах. Блестящее и
многообещающее начало научной карьеры, казалось
бы, свидетельствовало, что Муромцеву суждена
безмятежная жизнь преуспевающего учёного. Но
предначертанный ему судьбой путь вскоре изменил
его жизненную колею. Причины тому — политические
взгляды и общественная деятельность Сергея
Андреевича.
Прирождённый либерал, сторонник создания в
России правового государства типа
конституционной монархии, он не мог ограничиться
лишь научной и педагогической работой. На рубеже
1870-х и 1880-х гг. страна переживала очередной
общественный подъём: на фоне участившихся
крестьянских волнений, террористических акций
народовольцев заметно активизировались и
российские либералы, связывавшие свои надежды с
дарованием монархом конституции и созывом
общероссийского представительного органа.
Профессор Муромцев, не будучи по темпераменту
сугубо кабинетным учёным, не мог оставаться
сторонним наблюдателем происходивших событий.
Ведь участие в них давало возможность проверить
на практике жизненность его научных идей.
Активная общественная деятельность
С.А.Муромцева начиналась в период наивысшего
накала борьбы против самодержавия
революционного народничества, считавшего себя
единственным последовательным защитником
народных интересов. Русский конституционализм,
зарождавшийся преимущественно в среде передовой
дворянской интеллигенции, ещё не пустил прочные
корни и не пользовался значительной поддержкой
общества. Против либеральных идей выступали как
справа, так и слева. И те, и другие явно
недооценивали значение демократической
правовой системы.
Придавая большое значение публицистике в
воспитании правосознания общества, в пропаганде
идеи правового государства, С.А.Муромцев в
1878—1892 гг. возглавлял журнал «Юридический
вестник», а с 1880 г. был избран председателем
Московского юридического общества, члены
которого под его руководством активно
занимались подготовкой проектов более
совершенных и столь необходимых России законов.
Всех их объединяла идея создания правового
государства на основе реформ. Вокруг
«Юридического вестника» группировались
либерально настроенные публицисты и правоведы.
На рубеже 1870-х и 1880-х гг. практически
ежемесячно в журнале публиковались материалы по
конституционной тематике, связанные с
проблемами не только России, но и других
европейских государств. В таком же русле
действовало и Московское юридическое общество,
чья задача в тогдашней обстановке, по словам
Муромцева, заключалась «в проведении в публику
политических идей, усвоение которых требуется
современным общественным состоянием России».
Автором наиболее злободневных политических
заметок в «Юридическом вестнике» был его
редактор С.А. Муромцев, сблизившийся с другим
известным учёным, либералом по убеждениям М.М.
Ковалевским.
В сотрудничестве с единомышленниками —
юристами В.Ю.Скалоном и А.И.Чупровым Сергей
Андреевич написал весной 1880 г. «Записку о
внутреннем состоянии России» и передал её
получившему от Александра II весьма широкие
полномочия графу М.Т.Лорис-Меликову, на которого
либералы первоначально возлагали большие
надежды, требуя созыва общероссийского земского
представительства и гарантий демократических
свобод. Они прямо призывали верховную власть
привлечь общественные круги к более широкому
участию в государственной жизни, создав из
представителей земств «особое самостоятельное
совещание» с законосовещательными функциями.
Рукописные копии «Записки» распространялись в
либеральной среде, где она получила большой
резонанс. Опубликовать её в России тогда не
удалось из-за запрета цензуры, потребовавшей
вырезать крамольный текст из апрельского номера
«Вестника Европы» за 1881 г. Но в том же году в
Берлине под названием «В первые дни министерства
гр. Лорис-Меликова» вышло её заграничное издание.
Содержавшиеся в «Записке» идеи частично
использовались при составлении так называемой
«Конституции» М.Т.Лорис-Меликова — проекта
ограниченных реформ, представленного императору
Александру II накануне 1 марта 1881 г. Впрочем, к
этому моменту один из авторов «Записки» —
С.А.Муромцев уже успел разочароваться в
Лорис-Меликове, разглядев в его деятельности как
министра внутренних дел «много хорошего», но «ни
одной решительной меры», а главное — отсутствие
хорошо продуманного и последовательного плана
действий.
Надеждам на продолжение реформ не суждено было
сбыться. Вскоре после убийства Александра II и
воцарения Александра III произошла резкая смена
внутриполитического курса, начавшегося с
отклонения проекта М.Т.Лорис-Меликова и его
отставки. Наступившая эпоха контрреформ
коснулась всех сторон государственной и
общественной жизни, в том числе и системы
просвещения. Либеральная деятельность
профессора Муромцева, его противодействие
принятию нового антидемократического
университетского устава 1884 г. не остались
незамеченными в правительственных кругах. Новый
министр просвещения И.Д.Делянов постарался
избавиться от прогрессивной университетской
профессуры, лекции и политические взгляды
которой оказывали, по мнению властей, вредное
воздействие на умы студентов. С.А.Муромцев в
1881 г. был уволен с должности проректора
Московского университета из-за примирительной
позиции по отношению к весенним студенческим
выступлениям. Но это первое серьёзное
предупреждение сверху не заставило его
отказаться от своих убеждений, которые им
высказывались открыто. И в июле 1884 г. вступило
в силу предписание Министерства народного
просвещения ректору Университета о немедленном
увольнении «в виду сообщенных его
Высокопревосходительству Министерством
внутренних дел сведений о политической
неблагонадёжности профессора Императорского
Московского университета статского советника
Муромцева». Некоторые из коллег на заседании
университетского Совета 15 сентября того же года,
отозвавшись о С.А.Муромцеве «как о даровитейшем
учёном и преподавателе», выразили сожаление в
связи с его вынужденным уходом. Увольнение
Сергей Андреевич переживал очень тяжело.
На рубеже 70-х и 80-х годов произошло несколько
памятных событий и в личной жизни Муромцева: в 1879
г. – скоропостижная смерть отца, в 1882 г. —
женитьба на известной певице Марии Николаевне
Климентовой, ведущей солистке Большого театра, в
1883 г. — рождение первой дочери Ольги и
неожиданная кончина любимой младшей сестры.
После отставки путь на государственную службу
был закрыт. Пришлось искать иное поприще
практической деятельности — адвокатуру, чтобы
обеспечить семью. Уже в октябре 1884 г. С.А.
уромцев становится присяжным поверенным
Московского судебного округа. Будучи
специалистом по гражданскому праву, в отличие от
своего коллеги и современника, популярнейшего
московского адвоката Ф.Н.Плевако, он не выступал
в качестве защитника на громких уголовных
процессах. Известность ему принесло участие в
качестве адвоката в судебных заседаниях по
гражданским делам, особенно при их обжаловании в
кассационном порядке. Вот какую характеристику
Муромцеву как адвокату дал его коллега
И.А.Кистяковский: «Русская адвокатура знает
много талантов, богатых житейским красноречием,
но в смысле того юридического красноречия, где
слово — чекан, С.А. остаётся недосягаемым
образцом. Это не красноречие внешнего и широкого
успеха, оно не трогает чувства, но нужна великая
дисциплина ума, дабы явиться носителем именно
этого красноречия».
Честный и нравственно щепетильный человек,
Муромцев всегда тщательно изучал материалы дела.
И если у него появлялось сомнение в
достоверности какого-либо из документов, обычно
отказывался от защиты, хотя ему и предлагалось
крупное вознаграждение. Очень ответственно
относясь к подготовке к судебным процессам, он
имел в производстве, как правило, немного дел.
Поэтому доходы его от юридической практики,
несмотря на авторитет и известность, уступали
гонорарам других адвокатов. На протяжении 1890—1905
гг. С.А.Муромцев являлся товарищем
председателя Московского совета присяжных
поверенных. Огромная эрудиция и
принципиальность создали ему блестящую
репутацию в юридических кругах.
Глубоко зная гражданское право и умело
применяя его нормы на практике, Сергей Андреевич
и в своей адвокатской деятельности оставался
прежде всего учёным, стремившимся в выступлениях
на судебных процессах развивать нормы
действующего права, дать их исчерпывающее
толкование. Коллеги называли его истинным
мастером формулировки правовых решений. Такой
подход к выполнению функций защитника, конечно,
отнимал у С.А.Муромцева не только немало времени,
но сил и здоровья. Как вспоминал известный
деятель кадетской партии и адвокат М.М.Винавер,
который не раз вёл вместе с ним судебные дела, они
проводили «много дней, а подчас и ночей, в общей
умственной работе». Порой для этого Муромцеву
приходилось временно переселяться из
собственной небольшой квартиры в гостиницу
«Национальная», где останавливался приезжавший
из Петербурга Винавер. Защита прав личности от
произвола — вот что стояло на первом плане перед
Муромцевым-адвокатом, вот для чего не жалел он
своих сил.
После увольнения из университета наряду с
адвокатской деятельностью Сергей Андреевич,
особенно в первые годы, продолжал активно
заниматься публицистикой: до 1892 г.
редактировал «Юридический вестник», сотрудничал
с газетами «Порядок», «Русские ведомости»,
«Судебной газетой», журналами «Вестник Европы»,
«Русская мысль», «Северный вестник» и другими
изданиями, обосновывая на страницах прессы
необходимость тесного взаимодействия властей и
общества, ратуя за расширение сферы
использования суда присяжных, применение его в
гражданских процессах. Он откликался на многие
события общественной и литературной жизни.
Нередко публиковал некрологи в связи с кончиной
известных учёных (Р. фон Иеринга, Н.И.Крылова,
С.М.Соловьёва и др.). Современникам запомнилась
его страстная речь во время похорон И.С.Тургенева
в Петербурге в 1883 г. А произнесённое им 26 мая 1899
г. приветствие от имени Московского
юридического общества Обществу любителей
российской словесности по случаю 100-летия со дня
рождения А.С.Пушкина стало поводом для
правительственных репрессий. Властей особенно
возмутили заключительные слова его выступления:
«Празднуя ныне память поэта, мы торжествуем
вместе с тем победу, одержанную русскою
личностью над рутиною жизни и властной опеки!»
В результате Юридическое общество в Москве,
возглавлявшееся на протяжении почти двух
десятилетий С.А.Муромцевым, было закрыто.
В 1880-х гг. Муромцева можно было нередко
встретить на квартире И.И. Янжула, где собирался
кружок либерально настроенной профессуры
(Н.И.Кареев, М.М.Ковалевский, А.И.Чупров) и куда
заходил будущий лидер кадетской партии, молодой
тогда ещё историк П.Н.Милюков. После увольнения и
вплоть до восстановления в должности профессора
Московского университета (июнь 1906 г.) лишь
эпизодически ему доводилось заниматься
преподавательской работой, читая лекции в
Александровском лицее в Петербурге и в Русской
высшей школе общественных наук в Париже.
На протяжении многих лет Муромцев активно
участвовал в земском движении: не раз в
80—90-х гг. XIX в. избирался в Московское и
Тульское губернские собрания, заслужил
репутацию радикала в качестве гласного
Московской городской думы (1881—1884, 1889—1893,
1897—1907 гг.). Сохранились свидетельства о его
работе в Московском комитете грамотности и
комиссии по народному образованию. Древняя
столица давно уже стала для Сергея Андреевича
родным городом, с ней были связаны и радостные, и
горькие моменты в его жизни. Не жалея сил, он в
качестве гласного Думы немало потрудился над
разработкой её постановлений по многим вопросам
жизни крупнейшего города. Особый интерес у него
вызывали проблемы создания юридической базы
органов городского самоуправления, соотношения
между местным и общероссийским
законодательством. Занимался он решением и чисто
хозяйственных вопросов: обсуждением отчёта о
строительстве Александровских казарм,
рассмотрением проектов создания окружной
железной дороги, упорядочения планировки и
застройки Цветного бульвара, газового освещения
Москвы. Особенно в первый период своей думской
работы, в 1881–1884 гг., ему приходилось нередко
выступать в качестве наиболее
квалифицированного юридического эксперта по
правовым вопросам работы Думы, её гласных и
председателя. Позднее, воздавая дань памяти
Сергею Андреевичу, городская Дума после его
кончины учредила премию и стипендию имени
Муромцева при юридическом факультете
Московского университета и поместила портрет
одного из самых известных своих гласных в зале
заседаний. Неоценимый опыт практической работы
приобрёл С.А. Муромцев, участвуя также в
1880-х гг. в земском движении. Его не раз избирали
в гласные Московского и Тульского губернских
земств, Новосильского и Московского уездных
земских собраний.
В те годы именно земства стали оплотом
российского либерализма. Накануне первой
революции в России заметно оживилась
деятельность либералов, объединившихся в «Союз
Освобождение» (1904) и «Союз
земцев-конституционалистов» (1903). К последнему
примыкал и С.А. Муромцев. Пик его плодотворнейшей
общественно-политической деятельности пришёлся
на конец 1904—1906 гг.: начиная с ноября 1904 г. он
— активный участник всех земских съездов,
соавтор важнейших программных документов
либералов. При его непосредственном участии
составлялись политические заявления Московской
городской думы, Московского и Петербургского
советов присяжных поверенных, в которых звучали
конституционные требования.
Вскоре наступило Кровавое воскресенье 9 января
1905 г. В стране грянула революция. В разгар
революционных событий либералы не ослабили
своих усилий по созданию в стране правового
общества. В это время Сергей Андреевич Муромцев
словно переживал вторую молодость. Не жалея сил,
захватывая нередко ночные часы, он подолгу сидел
над текстами столь нужных стране проектов
законов, оттачивая их формулировки. В вопросе
законотворчества для него, крупного
юриста-учёного, не существовало мелочей.
И проект конституции, представленный на
рассмотрение земского съезда в июле 1905 г., по
праву именуется «муромцевским», хотя в его
составлении принимали участие и другие
известные деятели российского либерализма, в
частности Ф.Ф.Кокошкин. Впервые он был
опубликован 6 июля 1905 г. в газете «Русские
ведомости». В проекте Основного и Избирательного
законов уже в первых статьях первого раздела
провозглашалось, что «Империя Российская
управляется на твёрдых основаниях законов»,
проекты которых «исходят от Императорской
власти или от Государственной Думы и не иначе
получают силу закона, как по одобрении
Государственной Думы и по утверждении
Императором за собственным Его Величества
подписанием». Особое значение имело и
декларировавшееся равенство всех российских
граждан перед законом, «невзирая на различия их
племенного происхождения, веры или сословного
положения».
Проект был направлен на введение в стране
всеобщего равного избирательного права,
последовательным сторонником которого являлся
С.А. Муромцев, широко использовавший при его
разработке тексты европейских конституций и
избирательных законов. Надо учесть, что
документы были одобрены
земцами-конституционалистами в начале июня
1905 г., когда самодержавная власть ещё не
рассталась с иллюзиями откупиться от народа
созывом законосовещательной «булыгинской» думы.
С 12 по 18 октября в Москве в разгар всероссийской
политической стачки проходили заседания первого
съезда оформившейся организационно партии
конституционных демократов. С.А.Муромцева,
принявшего деятельное участие в нём, избрали в
состав временного ЦК.
Накануне закрытия съезда 17 октября государь
Николай II, опасаясь обострения ситуации,
подписал Манифест, даровавший политические
свободы и объявлявший о созыве законодательной
Думы, того самого всероссийского народного
представительства, которого так долго
добивались либералы. Этот лаконичный документ,
составленный С.Ю.Витте, хотя и был вынужденной
уступкой царя, вселял большие надежды либералам.
На первый план идеологи российского
либерализма (в том числе и С.А.Муромцев) выдвигали
конституционную реформу как основу для
продвижения по пути создания правового
государства. Наиболее приемлемой для России
формой правления, по их мнению, была
монархическая власть, ограниченная
конституцией, которая гарантировала её
легитимность. Демократическая избирательная
система, земские учреждения на местах и народное
представительство в виде парламента в центре
могли обеспечить эффективный контроль за
властью. Будучи наиболее последовательными
сторонниками введения в стране конституции,
кадеты считали, что только на её базе за
политическими реформами последуют социальные
преобразования. Даже сама программа
конституционно-демократической партии,
открывавшаяся разделом «Основные права
граждан», напоминала по структуре Основной закон
демократического государства.
Высшими ценностями для Муромцева и других
русских конституционалистов являлись права
личности и законность. Все преобразования в
России должны были (и в этом состояла их твёрдая
убеждённость) осуществляться только правовым
путем. Ничто не могло поколебать их твёрдую веру
в приоритет права. Умеренный либерал по взглядам,
Муромцев наряду с другими известными
юристами-кадетами (И.В.Гессеном,
П.И.Новгородцевым) считал, что монарх в России
должен обладать равными правами с народным
представительством в лице Государственной Думы.
Много сил у Сергея Андреевича отняли
проходившие в октябре и ноябре 1905 г.
переговоры земских делегаций с вновь
оказавшимся на гребне событий С.Ю.Витте. Речь шла
о создании коалиционного правительства с
непременным участием либералов, в том числе и
Муромцева в качестве министра юстиции. Но
главные надежды он возлагал, конечно, на
законодательную Думу.
Готовясь к её созыву, Сергей Андреевич всё
больше времени проводил в Петербурге, где жил в
небольшой квартире на Николаевской улице,
занимаясь составлением Наказа Государственной
Думе. Он оказался в числе четырёх её депутатов,
избранных от Москвы.
И вот наконец наступил долгожданный день — 27
апреля 1906 г. Выслушав в середине дня краткую
речь царя в Зимнем, депутаты на пароходе по Неве
отправились в Таврический дворец, где состоялось
открытие первого заседания первой в истории
России законодательной Государственной Думы. По
пути их встречали восторженными возгласами
толпы петер-буржцев. Относительное большинство
мест (179 из 478) в Думе завоевали кадеты, заранее
согласовавшие на своём апрельском съезде
кандидатуру её председателя. Она получила
одобрение и у депутатов от других политических
партий и фракций: за кандидатуру С.А.Муромцева
было подано 426 из 436 депутатских записок.
Избранный на этот высокий и ответственный пост,
к которому он готовился всю предшествовавшую
жизнь, Сергей Андреевич выступил с краткой речью:
«Кланяюсь Государственной Думе. Совершается
великое дело. Воля народа получает своё
выражение в форме правильного, постоянно
действующего, на неотъемлемых законах
основанного, законодательного учреждения.
Великое дело налагает на нас и великий подвиг,
призывает к великому труду. Пожелаем друг другу и
самим себе, чтобы у всех нас достало сил для того,
чтобы вынести его на своих плечах на благо
избравшего нас народа, на благо родины». Завершая
выступление, Муромцев подчеркнул настоятельную
необходимость уважительного отношения
депутатов Думы к прерогативам конституционного
монарха.
Сразу же после своего избрания Сергей
Андреевич вышел из фракции конституционных
демократов, создав тем самым прецедент для
последующих двух Дум. Председательствуя на
думских заседаниях, он не раз строго указывал на
нарушения процедурных норм своим соратникам по
кадетской партии, внешне одинаково относясь ко
всем депутатам, независимо от их партийной
принадлежности и политической позиции.
По словам А.А.Кизеветтера, видного историка и
члена Центрального комитета кадетской партии,
«своё дело Муромцев выполнял так превосходно,
что все члены Думы без различия партий
восхищались его председательствованием и
признавали его своим общим вождем». Дополняя эту
высокую оценку, А.А. Кизеветтер далее пишет:
«Строгий, суровый, торжественный, стоял он на
своём месте и вёл заседание твёрдо, в полном
сознании правоты своих действий. Но несмотря на
его суровость, все члены Первой Думы не только
слушались его, но и сердечно любили его. Они все
чувствовали, что Муромцеву Дума была дорога,
потому что ему дорога была родина, для блага
которой он пошёл в Думу».
Заняв председательское место, Сергей Андреевич
возложил на себя тяжкое бремя ответственности и
перед депутатами, и перед всей Россией, считая
этот пост вторым по значимости после императора.
Вряд ли эта ноша оказалась бы под силу кому-либо
из других видных русских либералов, деятелей
кадетской партии. Лидер кадетов П.Н.Милюков
признавал, что «именно С.А.Муромцеву первая
Государственная Дума обязана тем, что введение
русского представительства, действительно, не
застало “врасплох” наиболее подготовленную
часть русской интеллигенции». Обладая глубокими
познаниями, Сергей Андреевич приложил
колоссальные усилия к выработке думского
регламента и процедурных норм. Как подчёркивал
депутат I Государственной Думы Н. Езерский, «если
Дума не блуждала первое время ощупью, не
раскалывалась в ненужных вопросах процедуры… по
возможности сокращала время, тратимое на
выполнение формальностей.., то этим в
значительной степени Дума обязана такту и
твёрдости своего председателя».
Объективности ради надо отметить наличие в
воспоминаниях наряду с восторженными отзывами
более сдержанных, критических, порой даже
негативных оценок деятельности I
Государственной Думы, особенно в мемуарах
представителей правительственного лагеря. Так,
известный государственный деятель России
С.Ю.Витте, занимавший посты министров финансов и
путей сообщения, а также председателя Совета
министров в своих мемуарах писал позднее, что
«было бы правильнее её прозвать “Думою
общественного увлечения и государственной
неопытности”, а не “народного возмездия”».
Да, первый опыт парламентаризма давался России
с большим трудом. Но вряд ли стоит винить в этом
думских депутатов, даже самых радикальных и
нетерпеливых, выражавших установки своих
политических партий, интересы и настроения своих
избирателей. Как председатель I Государственной
Думы, С.А.Муромцев сделал всё, что было в его
силах, дабы направить её работу в нормальное
парламентское русло. Но Дума не являлась в полном
смысле слова парламентом, ведь министры были
ответственны перед императором, назначавшим их и
имевшим право издавать, минуя Государственную
Думу, указы, приобретавшие силу законов. Ставший
в апреле 1906 г. председателем Совета министров
И.Л.Горемыкин и другие ярые консерваторы
подталкивали царя Николая II к роспуску Думы.
Одновременно в июне 1906 г. лидеры кадетов вели
переговоры с дворцовым комендантом Д.Ф.Треповым
о создании однородного кадетского
«министерства» либо коалиционного
правительства.
С.А.Муромцева прочили на пост председателя
Совета министров, а также министра внутренних
дел. Но в разговоре с правым либералом, старым
знакомым по работе в земстве и Московской
городской управе Д.Н.Шиповым Сергей Андреевич
решительно отказался поддержать идею
формирования правительственной коалиции с
участием либералов, поскольку в руководстве
конституционно-демократической партии уже
созрело твёрдое мнение о большей
целесообразности однородного кадетского
кабинета, на пост председателя которого
претендовал Милюков.
Будучи хорошо информирован о переговорах,
Николай II не сделал ещё одного шага по пути
превращения России в конституционную монархию.
Ни Муромцева, ни тем более Милюкова не пригласили
на царскую аудиенцию в Петергоф. Вместо этого
последним российским императором 8 июля 1906 г.
был подписан указ о роспуске I Государственной
Думы, просуществовавшей всего 72 дня.
И хотя такого исхода либералы (в том числе и С.А.
Муромцев) не могли не ожидать, обнародование
царского указа 9 июля произвело на большинство
думских депутатов ошеломляющее действие. На
спешно созванном утреннем совещании многие из
них решили выступить с протестом и в тот же день
поездом отправились в Выборг, входивший тогда в
состав Финляндии, где рассчитывали на большую
свободу действий. К вечеру в гостинице
«Бельведер» собралось около 180 человек, наутро
следующего дня подъехало ещё 20 депутатов от
фракций кадетов, трудовиков и других. Около 10
часов вечера 9 июля наконец решили открыть
заседание, председательствовать на котором
предложили С.А.Муромцеву. Глубоко порядочный и
честный человек, он вместе с другими депутатами
безоговорочно подписал знаменитое Выборгское
воззвание «Народу от народных представителей».
Собравшиеся в Выборге призвали население России
в знак произвола — роспуска I Государственной
Думы — оказать «пассивное сопротивление»,
прекратив уплату налогов, явку новобранцев на
призывные пункты, выполнение других повинностей.
Таким способом, который, быть может, он сам
внутренне и до конца не одобрял, Сергей Андреевич
проявил солидарность с остальными депутатами,
согласившимися поставить свою подпись под
воззванием. В результате бывших депутатов —
участников протеста власти привлекли к судебной
ответственности. Их лишили избирательных прав и
права быть избранными в Государственную Думу. Но
Муромцев, духовно не сломившийся, продолжал жить
с верой в лучшее для страны будущее, занимаясь
подготовкой Наказа для будущей Думы.
Достойнейшим было его поведение и во время суда
над депутатами I Государственной Думы 12—18
декабря 1907 г. в Петербурге и в период
трёхмесячного пребывания в Таганской тюрьме в
Москве. Жизненные потрясения — роспуск I
Государственной Думы, репрессии властей, суд и
тюремное заключение — не могли не сказаться на
состоянии здоровья Сергея Андреевича. Но он
продолжал напряжённо работать в нескольких
областях: и в роли адвоката, и в качестве
профессора на кафедре гражданского права
Московского университета, и как преподаватель на
Высших женских юридических курсах, в
Коммерческом институте и Народном университете
имени А.Л.Шанявского. В 1908 г. вышла книга
С.А.Муромцева «Основы гражданского права.
Человек и общество», а через два года его «Статьи
и речи» в пяти выпусках (последние два выпуска —
уже после кончины автора, успевшего подготовить
их к печати).
Вот далеко не полный перечень его
дополнительных обязанностей в уже достаточно
пожилом возрасте: председатель суда чести при
Обществе деятелей периодической печати и
литературы, член редакции Энциклопедического
словаря братьев Гранат, один из организаторов
Общества мира в Москве, член Общества народных
университетов.
Выражением жизненного кредо С.А. Муромцева в
этот период стала его проникновенная речь,
произнесённая 26 апреля 1909 г. на торжественном
собрании в Московском университете, посвящённом
100-летию со дня рождения Н.В.Гоголя: «Чествование
Гоголя есть чествование духовной народной мощи
– той жизнедеятельной силы народного духа,
которую сам Гоголь постоянно сознавал в основе
своего художественного творчества. Чествование
Гоголя есть обращение к чувству общественности,
призыв к нелицемерному и горячему служению
народу, к самоусовершенствованию личности, как
составной единицы человеческого общежития».
В том же году чествовали и самого оратора по
случаю 25-летия его адвокатской деятельности.
А 23 сентября 1910 г. Сергей Андреевич скромно
отметил шестидесятилетие и, хотя летом пришлось
в связи с ухудшением здоровья обращаться к
врачам, юбиляр был переполнен жизненными
планами: готовил проекты законов для будущей,
либеральной по составу Думы; планировал новый
курс лекций, новые научные работы.
В официальной обстановке внешне холодный и
сдержанный, Сергей Андреевич оттаивал в кругу
семьи, которую очень любил — и жену, и детей,
ставших уже взрослыми. Его жена М.Н.Климентова
пользовалась популярностью в артистических
кругах, в течение 10 лет исполняя ведущие оперные
партии в Большом театре, а затем преподавая в
Московской консерватории. Жил Муромцев в
скромной по размерам квартире и уступил свою
комнату приехавшей дочери, а сам поселился на
время в гостинице «Национальной» (как обычно
делал не раз во время подготовки к сложным
судебным процессам). Воскресенье 3 октября он
провёл в семье, среди любящих его людей, затем
отправился в гостиницу, обещая вернуться домой
не позднее 9 часов утра, но не приехал.
Обеспокоенные домашние послали в гостиницу сына,
затем туда же приехали жена Мария Николаевна и
дочь О.С. Шаврина. В присутствии полиции вскрыли
гостиничный номер и обнаружили Сергея
Андреевича мёртвым. Скончался он, по заключению
врача, во сне от сердечного приступа.
Весть о смерти С.А. Муромцева разнеслась по всей
России от Петербурга до Владивостока. Скорбные
некрологи напечатали многие русские и
зарубежные органы прессы. Похороны председателя
I Государственной Думы 7 октября 1910 г.
превратились в массовую общественную
манифестацию. Передовая Россия отдавала дань
глубокого уважения его памяти.
Людмила МУРОМЦЕВА,
кандидат исторических наук
- Информация о материале
- Опубликовано: 11 сентября 2019
- Просмотров: 21693
Земства в России на уровне своей политико-культурной «генетики» оказались тесно связанными с конституционной идеей и конституционным процессом. Формирование конституционализма как политической идеологии происходило в XIX столетии и предшествовало первому российскому конституционному акту – Основным законам Российской Империи 1906 года. Появление Конституции Российской Федерации 1993 года было бы невозможно без устойчивой традиции конституционализма в России.
Принято считать, что Европа, и особенно Центральная Европа, в XIX веке пережила три импульса развития конституционной идеи: первый был связан с событиями Французской революции и транслирован в Европу вместе с завоевательными походами Наполеона Бонапарта, второй – с революцией 1830 года в Бельгии и принятием бельгийской конституции в 1831 году, и наконец, третий –
с европейскими революциями 1848 – 1849 годов.
Россия, активная участница общеевропейского политического процесса, испытала такие же импульсы, однако проявлялось это по-разному. В период союзнических отношений России и Франции 1807 – 1812 годов в России под руководством М.М. Сперанского велись серьёзные работы по подготовке конституционного законодательства. В короткий срок были подготовлены «Введение к уложению государственных законов» (1809 г.), проведены реформы Государственного совета (1810 г.), Кабинета министров (1810 – 1811 г.) и Сената (1811 – 1812 г.). Впрочем, замыслы Сперанского относились не
только к высшему эшелону коронной бюрократии. Они распространялись и на территориальную организацию имперской власти. 1Подробнее см.: Конституционные проекты в России. XVIII – начало XX в. М., 2000. С. 386 – 389.
После прекращения союзнических отношений с Францией эти работы были прерваны. Александр I лишь однажды вернулся к теме, когда возник вопрос о политическом устройстве бывшего
герцогства Варшавского, созданного Наполеоном и вошедшего в состав Российской империи в 1815 году. Александр I тогда даровал Польше конституцию…
В созданном по инициативе России Священном союзе Российская империя взяла на себя роль гаранта стабильности и порядка в Европе. Эта позиция, отчасти навязанная союзниками, не могла не
сказаться и на внутренней политике государства, на ужесточении общественного порядка, системы имперского управления. Несколько десятилетий тема конституции в России была под запретом. Только поражение в Крымской войне вызвало в обществе ожидание масштабных реформ; уход из жизни императора Николая I ускорил смену политического курса.
Основой будущих реформ стало освобождение крестьян. Реформа 1861 года неминуемо привела к необходимости учредить земское самоуправление, независимое от крупных землевладельцев. В результате земской реформы 1864 года в уездах и губерниях были созданы новые органы, наделённые властными полномочиями. Земская реформа явилась первой масштабной реформой подобного
рода, осуществлённой при участии практически всех сословий российского общества. Проблема устройства территориального управления – ключевая проблема конституционализма – перестала быть только заботой правящей элиты, став достоянием практически всех сословий.
Земства были наделены значительной экономической автономией по отношению к государству. В 1860-е годы представители центральных органов власти подчёркивали независимость и самостоятельность земств2Подробнее см.: Ярцев А.А. Земство и государственная власть в 1864 – 1904 гг. (на материалах Северо-Западных губерний). С. 59.. Первоначально земская деятельность не считалась государственной службой, а земские гласные не должны были принимать присягу. Большинство земских деятелей оценивали новые учреждения земства с позиций общественной теории и сравнивали их с «купеческими конторами» и «частным хозяйством»3Там же. С. 46. Губернатор или министр внутренних дел утверждали только земские постановления по вопросам, связанным с определением смет, раскладок и займов, вдвое превышавших размер ежегодного земского сбора, а также с транспортными путями, организацией выставок и ярмарок4Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 1864 г. Ст. 90 и 92..
Заседание земской управы
Государство сохранило за собой судебную и исполнительную власть в системе местного управления и взяло на себя контрольные функции. Отсутствие у земств полноценной исполнительной власти отразилось в том, что в «Положении» 1864 года земства названы органами «общественного управления» (не «самоуправления»!). Контроль за земствами возлагался на губернаторов и министерства,
прежде всего, на хозяйственный департамент Министерства внутренних дел (в 1904 году эти функции перешли главному управлению по делам местного хозяйства того же министерства). Губернаторы и министерства освещали земскую деятельность в своих ежегодных отчетах императору.
Это был период поиска баланса полномочий и прерогатив различных уровней самодержавной власти и общественного, сословного самоуправления. Власть и общество пытались выйти на новый
уровень взаимодействия, пусть далёкого от партнерства, но стремившегося к разделению ответственности за местные дела между самоуправлением и коронной бюрократией. Накапливался опыт согласования интересов самодержавия и земств, выходивший за пределы административного регулирования, который мог быть осмыслен лишь в рамках конституционного процесса.
Несмотря на то, что главной темой Великих реформ было освобождение крестьян, тем не менее, отдельные представители правившего сословия активно занялись разработкой конституционного вопроса и искали возможности применить опыт изучения европейского конституционного процесса в России5См.: Ведерников B.B., Китаев B.A., Луночкин А.В. Конституционный вопрос в русской либеральной публицистике 60 – 80-х гг. XIX века. М., 1997; Гоголевский А.В. Русский либеральный конституционализм // Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии. Сборник документов / сост: А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2000. С. 7 – 30; Он же. Русский конституционализм на путях к парламентской монархии. Вступит. статья. // Русский конституционализм на путях к парламентской монархии. Сборник документов / сост.: А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2001. С. 7 – 31; Губанов Н.Н., Долбилов М.Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в 1850 – 1860-х годах // Вопросы истории. 2000. №6. С. 32 – 52; Легкий Д.М. Студенческое «Прошение на имя государя» осенью 1861 года // Вопросы истории. 2000. №10. С. 144 – 149, и др..
Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.Е. Репина (1885-1886 г.)
В своей эйфории русские либералы были убеждены, что принятие конституционных законов позволит ограничить произвол администрации, приведёт к созданию правового государства и справедливого общества. Тем более, что с самого начала обсуждения земской реформы создание системы местного самоуправления некоторыми влиятельными реформаторами оценивалось как первый шаг к конституционной монархии. Уже в первоначальном проекте земской реформы Н.А. Милютина, подготовленном предположительно в 1857 – 1858 годах и не предназначенном для опубликования, содержалось предложение о преобразовании Государственного совета и наделении его новыми представительными функциями. По мнению Милютина, «это устройство конституционного правления в России, начиная с низших инстанций, могло бы завершиться впоследствии государственным советом и иметь его во главе своей. В этот совет государь созывает способных людей из всех губерний и эти представители непосредственно докладывают государю обо всех нуждах отдельных губерний и о мерах улучшения»6Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 869. Оп. 1. Д. 395. Л. 112..
Вклад Н.А. Милютина, одного из основных разработчиков земской реформы 1864 года, до сих пор недостаточно оценен в историографии. Между тем, именно он добавил глубины и основательности земским преобразованиям. Интересна оценка его деятельности французским исследователем А. Леруа-Больё: «Он думал только, что прежде чем приступать к политическим реформам, необходимо подготовить реформы административные, и что для приучения страны к самоуправлению политическому необходимо дать ей школу самоуправления местного. (…) Земствам, – этим скромным провинциальным учреждениям, – Милютин придавал тем большее значение, что в его мыслях эти выборные собрания должны были приучить страну к самоуправлению; вместе с некоторыми другими он видел в них, если не для настоящего, то для будущего, зародыш представительного правления»7Цит. по: РГИА. Ф. 560. Оп. 43. Д. 7. Л. 37 об..
Даже после того, как комиссию о губернских и уездных учреждениях Министерства внутренних дел возглавил П.А. Валуев и конституционный вопрос перестал там обсуждаться, российскому обществу была очевидна связь земского самоуправления и будущего конституционного устройства России. Представители власти и общества ещё больше убедились в этом после принятия «Положения о
губернских и уездных земских учреждениях» 1864 года и начала работы земств. Одно из звеньев системы территориального управления, о необходимости которого говорил Сперанский, было создано и стало функционировать как элемент имперской власти.
В 1881 году министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов предложил ввести постоянных выборных земских представителей в состав Государственного совета с целью согласования интересов.
После трагической смерти Александра II император Александр III отказался от расширения Государственного совета. Новый министр внутренних дел Н.П. Игнатьев предложил созвать земский собор
для рассмотрения насущных проблем российских реформ8Зайончковский П.А. Попытка созыва земского собора и падение министерства Н.П. Игнатьева // История СССР. 1960. № 5. С. 126 – 139..
В своей записке «Ближайшие задачи наступающего царствования» (март 1881 года) Игнатьев писал: «Не уступая ничего из своей власти, самодержец, созывая собор, найдет верное средство узнать истинные нужды страны и действия собственных слуг… Когда царь и земля войдут в непосредственное общение, отпадут все недоразумения и опасения»9Цит. по: Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 128 – 129.. Предложение министра также не нашло поддержки верховной власти.
Земские гласные также проявляли большой интерес к конституционному вопросу. Дарование Болгарии конституции после Русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов вызвало в земской среде не
только патриотический подъём, но и надежды на политические преобразования, которые были озвучены гласными Харьковского, Черниговского, Тверского, Полтавского, Самарского и других земств.
Известность получил проект адреса на высочайшее имя гласного Черниговского земства И.И. Петрункевича.
По инициативе Тверского земства в Москве в 1879 году собралось совещание, на котором было образовано «Общество земского союза и самоуправления» («Земский союз»)10Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905 – 1907 гг. М., 1985. С. 30.. Опубликованная за границей программа «Земского союза» включала требования свободы слова и печати, гарантии неприкосновенности личности, созыв Учредительного собрания. Конечно, идеи земского либерализма были приняты далеко не всеми земскими гласными. По словам К.К. Арсеньева, «земство и либеральная партия далеко не синонимы»11Арсеньев К.К. Хроника. Новый обличитель русского либерализма: С.А. Приклонский // Вестник Европы. 1886. Т. 3. Кн. 5. Май. С. 355.. Вместе с тем, практически все сочувствующие земскому либерализму были сторонниками конституционализма12Иорданский Н.И. Конституционное движение 60-х годов. СПб., 1906; Кистяковский Б. Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России. М., 1912; Тихомиров Л.Н. Конституционалисты в эпоху 1895 г. М., 1895..
Андрей Шутов, доктор исторических наук, профессор, декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова
- Подробнее см.: Конституционные
проекты в России. XVIII – начало XX в. М., 2000. С. 386 – 389. - Подробнее см.: Ярцев А.А. Земство и государственная власть в 1864 – 1904 гг. (на материалах Северо-Западных губерний). С. 59.
- Там же. С. 46
- Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 1864 г. Ст. 90 и 92.
- См.: Ведерников B.B., Китаев B.A., Луночкин А.В. Конституционный вопрос в русской либеральной публицистике 60 – 80-х гг.
XIX века. М., 1997; Гоголевский А.В. Русский либеральный конституционализм // Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии. Сборник документов / сост: А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2000. С. 7 – 30; Он же. Русский конституционализм на путях к парламентской монархии. Вступит. статья. // Русский конституционализм на путях к парламентской монархии. Сборник документов / сост.: А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев. М., 2001. С. 7 – 31; Губанов Н.Н., Долбилов М.Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в 1850 – 1860-х годах // Вопросы истории. 2000. №6. С. 32 – 52; Легкий Д.М. Студенческое «Прошение на имя государя» осенью 1861 года // Вопросы истории. 2000. №10. С. 144 – 149, и др. - Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 869. Оп. 1. Д. 395. Л. 112.
- Цит. по: РГИА. Ф. 560. Оп. 43. Д. 7. Л. 37 об.
- Зайончковский П.А. Попытка созыва земского собора и падение министерства Н.П. Игнатьева // История СССР. 1960. № 5. С. 126 – 139.
- Цит. по: Зайончковский П.А. Указ. соч. С. 128 – 129.
- Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905 – 1907 гг. М., 1985. С. 30.
- К.К. Хроника. Новый обличитель русского либерализма: С.А. Приклонский // Вестник Европы. 1886. Т. 3. Кн. 5. Май. С. 355.
- Иорданский Н.И. Конституционное движение 60-х годов. СПб., 1906; Кистяковский Б. Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России. М., 1912; Тихомиров Л.Н. Конституционалисты в эпоху 1895 г. М., 1895.
ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Какие уроки можно вынести из опыта земской деятельности?
Земство и конституционализм: в поиске баланса полномочий и прерогатив
«История в зданиях». Отделение Российского исторического общества в Туле